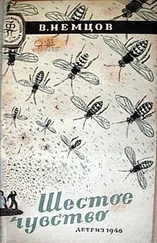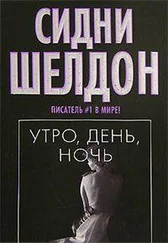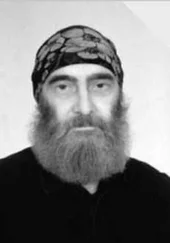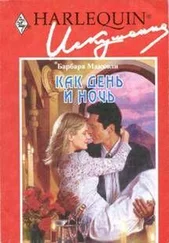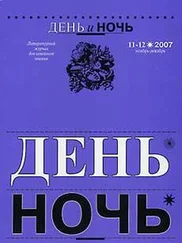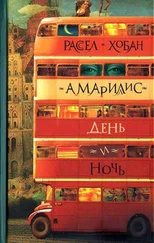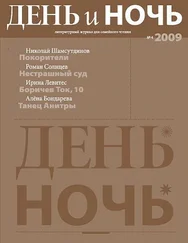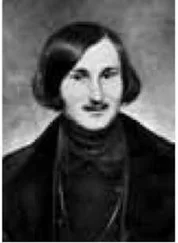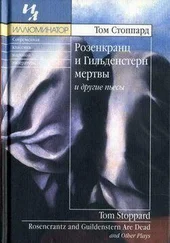Небо движется как-то толчками.
Гибель — спешка, густой недосуг.
Всё, что нужно, мы делаем сами —
Лишь у горя не тысяча рук.
21–22.04.1997
Поэзия — ген и первооснова бытия, а значит, информация без поэзии никогда не существовала и впредь не будет существовать, а тем более осуществляться. Только поэты уровня Ильи укрепляют генофонд Слова, которое всегда, при любом состоянии информации, остаётся с Богом. И Бог ничего им не диктует, как придумали поэты, — он просто с ними заодно, если только на самом деле Господь не является их первым слушателем. Но это уже из области предположений…
Земное отсутствие поэта не помешало построить добротный, крепкий и густо заселённый Дом Ильи, где собираются поэты и читатели, каждый из которых вкладывает в неутихающее строительство здания по своему кирпичику, по досточке строит своё обитание. Материальное воплощение этого дома — литературный конкурс «Илья-премия» — начавшись, как инициатива родителей поэта Ирины Медведевой и Николая Тюрина, стала общим делом многих творческих людей страны. Без официозного толковища и постоянной государственной поддержки. Даже если кто-то уходит из этого дома, что тоже есть жизнь, всё-таки навсегда остаётся в нём своим словом, которое неизменно подхватывают другие. Пожалуй, это единственное известное мне гражданское (в данном контексте это наиболее удачное слово) начинание в современной литературе, держащееся на энтузиазме сотен бескорыстных людей, которые в обыденной жизни, может быть, никак себя не проявили бы, потому что им противопоказана суета сует, потому что в них заложены атомы духовной красоты. И отзываются они только на неё. И хотя всё наследие Ильи вмещается в пару книг, но, как это часто бывает, слово его сеет зёрна и разрастается в других, заставляя мыслить и думать о будущем, формируя актуальное слово нового дня.
Конечно — и спорить тут бессмысленно — многие поэты, собравшиеся в Доме Ильи, смогли бы войти в литературу и прожить в ней самостоятельно. Но кто знает, как бы повернулась судьба поэта из таёжного посёлка Лесогорск Иркутской области Вячеслава Тюрина, не пришли он свои тексты на конкурс «Илья-премия»? Благодаря москвичу Илюше Тюрину «дикорос» из тайги, мыслящий планетарно широко, но прикованный к своей деревне, где по весне «в отогретую флейту берёз дует яростно только северный ветер», выпустил первую книжку в Москве и, только годы спустя, вторую — у себя на родине, в Иркутске. Именно после счастливого признания его в Доме Ильи Тюрина у Вячеслава Тюрина (здесь однофамильство только подчёркивает духовное родство) сдвинулась с мёртвой точки поэтическая судьба от публикации к публикации, от читателя к читателю. Хотя обстоятельства личной жизни, кажется, намертво приковали его к месту, где сельсоветская Муза чахнет на одной картошке — ведь, как известно, на одном этом продукте таланты не растут. Да и там Бог поэзии жмётся по углам, выцарапываясь из глухомани свободой рифмованного слова:
В лесопарковой зоне города, на отшибе
русской изящной словесности, среди хвои,
куда заезжают для пикника на джипе
любопытные существа, эти вечные двое,
позаниматься на заднем сиденье блюзом,
а затем рок-н-роллом. Есть и другие жанры.
Сюда заплывают, дабы расстаться с грузом
одиночества, крепко друг друга держа за жабры.
И всё же для меня Вячеслав Тюрин — певчий глагол Бытия, сжатый до божественно притягательного Я. Поэт поёт самого себя, и многим теперь его песня становится слышна. Может ли вырваться в урбанизированное пространство поэт из сельсовета? Такие попытки были, и не один раз, но он всегда возвращался в своё замкнутое пустотой пустоты пространство, где ему трудно живётся, но легко пишется каждый день. Хотя не всё, что записывается, отдаётся в печать.
Пригрели в Доме Ильи и вывели на читательский свет вечно путешествующего в «безъязыковом пространстве» до нищеты тела и духа иркутского поэта Андрея Тимченова, лирический герой которого «мертвецу протягивает списку». Жизнь поэта оборвалась — по строго запрограммированному сценарию — рано, но вовремя, ведь он
«Пошёл по свету с лицом Иуды
С отчаянным желанием полюбить и поверить».
А в Доме Ильи он продолжает общую и единую для всех дорогу поэта, о котором постоянная обитательница поэтического сообщества Анна Павловская (и сама — гран-при Илья-премии) написала самое проникновенное слово, согласно которому «мир Тимченова — это вопящий, кровоточащий мир Иова, в безумии соскребающего с себя черепками гной незаслуженной проказы. Какая-то поистине библейская внутренняя невиновность чувствуется за всеми его вопросами-вопрошаниями, обращёнными мимо недоумевающей публики — прямо к Богу. Причём сам текст и есть ответ Бога Иову — торжественная песнь, из которой появляется мир: города, дороги, поля». Потому что
Читать дальше
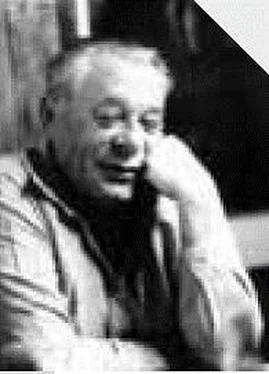
![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)