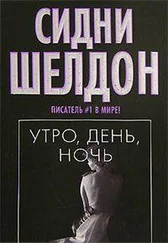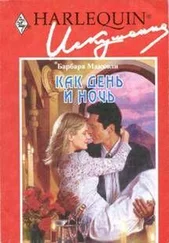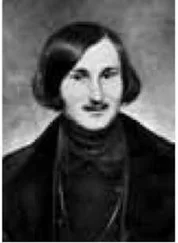Предчувствую, что бунинские читатели поставят мне «в строку» это привлечение П. Иванова. Про церковь, говоря о «Тёмных аллеях» никто ни гу-гу. Вроде — при чём тут это? Но когда утром и на ночь прочитаешь про «разжжённые стрелы лукавого», то и какую-то фразу не допишешь. И шмелевское посягательство на «пьедестал» поймёшь.
В «Окаянных дня» Иван Алексеевич вспоминал, что в Одессе нет-нет заглядывал в церковь, спасаясь от безумия дня, и с удивлением отмечал, что «люди той среды, к которой принадлежу, бывали в церкви только на похоронах». Не знаю почему, я часто думал об этом при чтении «Тёмных аллей», и когда наткнулся на мысль П. Иванова, словно порезался об неё — тут есть обо что порезаться, если в главе «вероисповедание» мы пишем сегодня (большинство из нас) «православие».
Александр Архангельский написал однажды, что в «Тёмных аллеях» Бунин хотел спрятаться от скуки и путаной тесноты грасской жизни, да и от самой истории (навидался войн и революций) в «эстетическую теплицу», уходя «погасить свет в том, что было ему родной литературой». А Бахрах был уверен, что «Тёмные аллеи» — это самозащита от «поглощения себя в ничто», которого боялся Толстой и которого так же, если не более, боялся и сам Иван Алексеевич, любивший свою подтянутую молодость, своё крепкое тело, свою поджарую красоту. Это правда — и про «теплицу», и про самозащиту.
Можно представить, как он выходил к «семье» (никак без кавычек не обойтись) с новым рассказом и с вызовом читал его. Не думаю, что тут было только любование силой («комар носа не подточит»). Или соревнование с коллегами (ведь рядом работали Шмелёв, Алданов, Зайцев, Сирин — целая хрестоматия!). Но и то, что чуткая Г. Н. Кузнецова назвала «дерзостью отчаяния». Были, были и «дерзость», и «отчаяние». И было прощание с юностью, и ужас старости, и высокая человеческая молитва блаженного Августина: «Господи, пошли мне целомудрие, но попозже, попозже, Господи!» (разве что у блаженного Августина она выкрикнулась в молодости и была трогательна и прекрасна, а тут — в старости и в уже проступающей жалкости — «смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный» — так, кажется, у Пушкина?). Был ужас отставания ещё молодого сердца и ума от возраста тела, когда молодая красота мучает и кажется вызовом именно тебе. А он ответным вызовом соблазнял читательниц воображением, пьянящим словом, не замечая, что для читателей его прелестные героини — святые и бесстыдные — тоже только высохшие цветы между страниц, навсегда оставленная родина. А новая юность смеётся другому и только улыбается чувственности фантазии художника: какой милый старик!
Он ведь и в Россию, когда замаячила возможность возвращения, оттого и боялся вернуться, что страшился увидеть «старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то…), кладбище всего, чем жил». Словно обмануть себя хотел молодостью и тем, что старость «женщин, с которыми когда-то». не коснулась его и они там тоже всё молоды и горячи и ещё пересекутся в тёмных аллеях. Всем нам хочется обмануть время, ускользнуть из-под его холодной власти.
Но это я всё об осени и об осенних, так омрачивших сердце и так далеко заведших его «стихах» «Тёмных аллей» так долго говорил. А ведь была ещё весна! Весенние «гимны»! И как же мы, оказывается, зависим от матушки-природы! Даже если это ещё и не рассказы, а только вспышки, как «Камарг» или «В одной знакомой улице», то и там весна и полёт, а уж когда всё сердце на воле, то…
Прочтите-ка «Натали»! Задохнётесь! Кажется, художник не может дождаться утра, чтобы скорее опять за стол. Кузнецова говорит, что часто Иван Алексеевич писал, запершись на ключ. Уж «Натали» — так точно запершись. Словно счастье работы могло быть разрушено неосторожным словом, бытовым вопросом, даже чьим-то кашлем внизу. Такая потаённая горячность, подлинный ужас любви, наэлектризованный воздух, будто перед молодой тютчевской грозой. Так что и чтение следом становится так же горячечно и чуть стыдно, словно и ты изменяешь себе и своей юности и не знаешь, как вернуть её, и, как бывает во сне, неожиданно застаёшь себя в слезах.
У великого итальянца Джованни ди Лампедуза в романе «Гепард» старого героя, который всю книгу держит и дом, и сам порядок старого выверенного мира, уводит из жизни последним видением молодая возлюбленная — всегда молодая, всегда возлюбленная, которая суждена всем, а встречается единицам. Как когда-то Вячеслав Иванов выговаривал молодому поэту, признавшемуся, что ещё не любил: «Не любил он! Как будто это даётся каждому. Это всё равно, что сказать — я ещё не был королём!»
Читать дальше

![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)