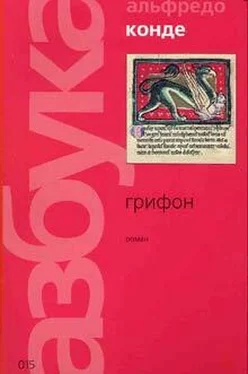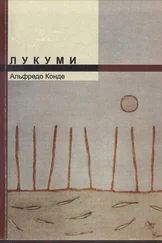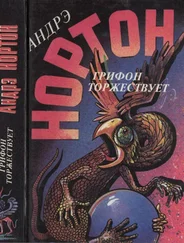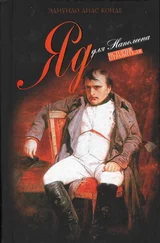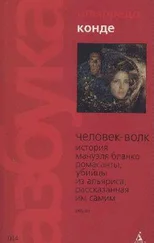Пожилой Профессор смотрит в их сторону. Его сверстники тоже верили в значимость слов, и многие неукоснительно следовали путем, что указывали им те, кого они считали своими. Нужно оставить учебу и отправиться делать революцию на консервную фабрику? И они бросали учебу в надежде, что таким образом смогут изменить мир. Нужно мыть полы в больнице, ибо это пойдет на пользу революции? И они мыли. Нужно срочно ехать в Кальдас-де-Рейс и сообщить такому-то, что на окно села ворона? И они ехали и оставляли незаконченную работу, невыполненные обязанности, ибо все мы были воспитаны в «преданности делу» и надо было делать это дело.
Возможно, теперешние уличные торговцы гораздо более свободны, более независимы, нежели революционные фанатики шестьдесят восьмого, проникнутые духом миссионерства, для кого риск, боль, опасность тюремного заключения, возможность пыток, насилия, репрессий были константами, координатами, в которых добровольно и покорно существовали эти мальчики поколения шестьдесят восьмого, те самые, что могли бы стать блестящими профессорами, известными врачами, красноречивыми адвокатами, а вместо этого теперь торгуют в ларьках или, если им повезло, сидят за крайними столами в отделениях банков.
Возможно, эти их младшие братья, не пытавшиеся построить рай на земле, а выбравшие для поисков счастья пыльные улицы и продающие теперь кассеты Боба Дилана [115]или «Моди Блюз» у тюремных стен в Эксе или на улице Вильяр в Компостеле, свободнее, чем они. Каждое поколение приносит в жертву лучших, самые беспокойные всегда падут первыми для того, чтобы худшие, менее благородные, менее способные на самопожертвование потом оставили мир таким, какой он есть, не позволив ему слишком спешить в своем развитии, не меняя ничего из того, что не должно быть изменено. Приглашенный Профессор размышляет об этом, неторопливо расхаживая по узким проходам между палатками, время от времени задерживаясь у тех, на которые падают первые лучи утреннего, еще неяркого солнца. Он только что рассказывал студентам о насилии в маленькой литературе его страны, о насилии, что идет рука об руку с лиризмом, которым она пронизана в равной степени, и теперь он пытается уловить нечто связывающее эти два состояния, эти два понятия на невеселых физиономиях уличных торговцев, привыкших стоять на солнце здесь и в тысяче других городов, на тысячах других базаров, по которым бродят они, не ведая покоя, гонимые тем странным ветром, что поднимается временами по воле истории. Им хорошо известно чувство затравленности, когда они не могут оплатить векселя, которых всячески пытались избежать; они знают, что такое аварии на дорогах, какое напряжение создает зависимость, ведь они всегда стремились избавиться от нее. Людишки-то они в общем симпатичные, готовые, впрочем, схватиться за нож, когда уже нет мочи терпеть, когда слишком много бед обрушивается разом на их не слишком сильные плечи.
Какие-то каталонцы, сборщики металлолома, именующие себя антикварами, пытаются продать ему латунный корабельный нактоуз [116], явно недавнего производства, по цене билета на «Королеву Марию», и он прикидывается дурачком и заставляет их в конце концов заговорить по-испански, и они кричат на него за то, что он отнял у них столько времени, хотя с самого начала прекрасно понял, что они хитрят, и не собирался у них ничего покупать. Потом, по причине скупости, нападающей на него временами, он так и не покупает старую складную пишущую машинку; и наконец он останавливается перед тем, что любит больше всего, перед старыми книгами.
Он знает, что эти маленькие радости, такие как страсть к старым книгам, останутся с ним навсегда. А вот с Мирей он переживает сейчас один из последних всплесков чувственной жизни; такое началось у него несколько лет назад, это как бабье лето, одаривающее нас остатками прежнего тепла. А потом наступит зима. Ему хорошо известно, что простудиться в солнечную осеннюю пору, когда вдруг возвращается неожиданное тепло, очень опасно, от такой простуды всегда трудно вылечиться, и поэтому он старается не принимать этого слишком всерьез; но и шутить он тоже не собирается. Это неторопливое, приятное прощание с теми радостями, которые так много значили в его жизни; и наслаждение состояло не столько в реальном обладании, сколько в постоянных мечтах о юных красавицах, мечтах, что с каждым разом казались ему все менее осуществимыми, — а теперь вдруг, почти что уже и не вовремя, они вновь обретали телесную форму, именно телесную, лучше и не скажешь, и являлись ему, с тем чтобы навсегда проститься перед наступающим бессилием; он знал это и готовился к этому уже несколько лет. Он пришел к такому пониманию, зная, что у слепых резко возрастает степень владения оставшимися у них чувствами: осязанием, слухом, обонянием и даже ощущением пространства, — это последнее помогает им ориентироваться, воспринимать пространственные отношения и пользоваться ими.
Читать дальше