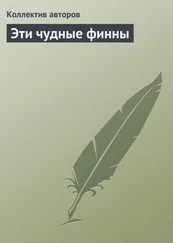С его лица не сходила задумчивость. Не то, чтобы его мучил какой-то вопрос или он пытался что-то разрешить, он и не предпринимал ни малейшего усилия что-либо решить или хотя бы обсудить с самим собой. Хотя вполне ему могло показаться, например, следующее: «Я всю жизнь мечтал об одиночестве, я мечтал бросить все и уехать к черту на кулички, где меня не знала бы ни одна душа, я мечтал целыми днями бродить среди посторонних людей, от которых мне ничего не надо и которым ничего не надо от меня. Я мечтал расстаться с действительностью, чтобы ничего не связывало с ней и не удерживало, я хотел быть свободным, я мечтал переселиться в свой собственный мир, который бы я творил подобно Богу... Неужели то, что сейчас со мной, и есть осуществление мечты?»
Впрочем, это фантазия – Шадрин вовсе мог и не говорить себе такого.
Он очнулся через неделю, когда, спускаясь в ресторан обедать, обнаружил, что у него не осталось денег. Вернувшись в номер, он порылся в карманах плаща, заглянул в ящики тумбочки и стола, сложил стопкой купленные книги и лег на кровать. В этот день он никуда из номера больше не выходил, а утром следующего электричкой вернулся в областной город.
На второй день по возвращении его встретил на улице критик К. Ничего особенного он тогда в Шадрине не заметил, кроме того, что тот был абсолютно трезв. Это обстоятельство так поразило критика, что сегодня на поминках, когда все уже изрядно выпили, он то и дело, чаще самому себе, немного удивленным голосом повторял:
– Надо же, он был совершенно трезв, совершенно. Надо же...
А Димка тогда продал квартиру, продал почти все имевшееся имущество, оставшееся упихал в чемодан и сумку через плечо и через неделю, вернувшись в Родинское, отправился в старую часть города, которая прижималась к вокзалу. Еще в первую свою прогулку по Родинскому, свернув с главной дороги, ведущей к центру, он побродил по тихим улочкам, находившимся как бы в полузабытье, как подуставшие старушки. Тогда, в дождь и грязь, все выглядело уныло, раскисше и размазано, теперь же, когда снег припудрил город, улочки преобразились, в них показалась та доброта, о которой все мы грустим, вспоминая детство.
Улочки жили своей тихой жизнью... Прямо по середине, по свежему снегу пролегли два следа от машинных колес, а вдоль заборов к водонапорным колонкам тянулись веревочкой тропки, сами же колонки, с заледенелой бородой, казались застывшими истуканами, охраняющими покой улочек. К одному из таких истуканов топала баба с ведром. Шадрин ускорил шаг, и баба, заметив его, остановилась, поставила ведро, и, уставясь на Шадрина, стала ждать.
– Скажите, – спросил, поздоровавшись, Димка, – здесь никто не сдает комнату?
– Комнату? – переспросила баба. На ней был серый шерстяной платок, пальто цвета охры и валенки. – Да разве что Купчиха, или Маруся, или вот, может, Егоровна... А сколь вас народу-то?
– Мне, – улыбнулся Димка, – мне одному надо комнату. – А надолго ль?
– Пока сам не знаю, для начала на год. – По распределению, что ль? – Почти.
– Так вроде не молодой уж. – Так вот получилось.
– А на какой завод? Или куда еще?
– Да не ясно пока. Тут решат.
– А-а, ну тут-то решат... У нас-то два больших завода – пластмассовый один, а другой фабрика – швейная. А сама я работала на станции. Станция-то у нас тоже большая...
– Так вот, к кому бы мне лучше обратиться?
– Да хоть к Купчихе, или Марусе, или вот, к Егоровне...
– А где эта Егоровна?
– А вон – наискось отсюдова, видишь крыша металлическая, то ее дом.
– Спасибо.
– А можно, конечно, и к Купчихе, или к Марусе, что ли...
– Большое спасибо.
Димка еще раз улыбнулся и пошел к дому, блестевшему на солнце «металлической крышей», а баба еще долго стояла с ведром у ног и смотрела, как Димка подходит к калитке, открывает ее и входит во двор. Наконец непонятно отчего вздохнув, она подняла ведро и потопала к водонапорной колонке.
Вера Егоровна оказалась тучной женщиной лет шестидесяти. Сначала она смотрела на Димку настороженно, но, узнав, что Димка писатель, подобрела. Вообще нетрудно заметить, что, чем дальше от крупных городов, тем более теплое отношение к людям творческих профессий. Вдалеке от крупных городов с писателями, артистами и художниками считаются, может, не столько из-за самого искусства, сколько из-за некоторого налета таинственности на их профессии, равняющей их в чем-то с ведунами.
Комната, которую показала Вера Егоровна Димке, располагалась сразу за кухней и, когда Шадрин увидел ее, то в первый момент смутился – слишком уж преобладал темный цвет: темно-коричневые стены, мрачный, доисторический какой-то шкаф, поцарапанный серый столик у небольшого окошка. Над кроватью коврик болотного цвета, на котором смутно различался Иван-царевич, умыкающий Василису Прекрасную – серый волк не различался вовсе... Покрытая синим армейским одеялом кровать оказалась жесткой, и Шадрин вспомнил, как он, получив квартиру и не имея никакой мебели, с год спал на полу и всем говорил, что спать надо именно на жестком, так как это оберегает от ревматизма. А когда вышла вторая книжка, он, получив гонорар, сразу из издательства отправился в мебельный магазин и купил себе роскошный диван, который в раздвинутом состоянии производил сильное впечатление и занимал половину Шадринской комнаты. Димка был в восторге и, кажется, никогда больше в первоначальный, сложенный вид диван не возвращал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу