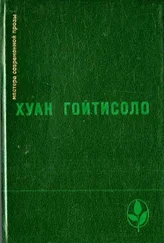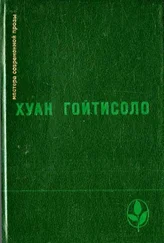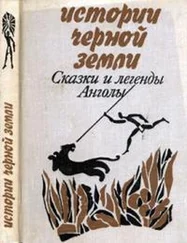На мгновенье все замерли в нерешительности — спуститься ли по Ульменляйте, к церкви, или сперва завернуть на Риссляйте, к булочной Вальтера? Очередь перед булочной при их приближении поредела, распалась на группки; из дверей выглянули, смущенно комкая фартуки, продавщицы; «Булочек захватите!» — крикнул кто-то; взмахи рук, крики; «Присоединяйтесь, мы нуждаемся в каждом мужике!» А зубная врачиха Кнабе, подтолкнув вперед своего запуганного супруга, добавила: «Правильно — и в каждой бабе!» Ульрих сорвал с себя и бросил на землю партийный значок. Барбара договорилась с Лайошом Винером о переносе на другой день своего визита к нему — пока он писал на двери парикмахерской: «Закрыто по причине революции». Госпожа фон Штерн, повесившая через плечо жестяную коробку для завтраков, бодро стучала об землю узловатой палкой: «Это на случай, если кто-то нарушит должную дистанцию. Невероятно, что мне-таки довелось увидеть такое — после событий октября семнадцатого!» Рихарду же этот день, этот октябрьский день 1989 года, вдруг показался серьезным и простым, исполненным энергии; на небе за деревьями проступили едва заметные, не толще волоска, трещинки; Рихард видел выбоины, беспомощно заделанные асфальтовыми кляксами, — халтурно заштопанную кожистую оболочку старых улиц, которая, как у змей при линьке, похоже, вот-вот должна была лопнуть; и хотя уже сгущались сумерки, через все эти трещины веяло дурманящей свежестью, какую он чувствовал молодым человеком, когда затевалось очередное приключение, одна из тех внезапно вспыхивающих грандиозных авантюр, которые нарушают норму, но награждают Я золотым нимбом, сотканным из счастья и боевой песни. «Ханс», — сказал он своему брату, вынырнувшему из-за угла Волчьего спуска; «Рихард», — сказал токсиколог, вот и все, но то были первые слова, которыми они обменялись за долгое время. Ирис и Мюриэль отказались взять свечи, предложенные им пастором Магенштоком; воздержался от этого и Фабиан, теперь — уже молодой человек, с немножко смешными гайдуцкими усиками; все трое не несли ни свечей, ни плакатов с изображением Горбачева, в отличие от столь многих: они не хотели никакого улучшенного социализма, они вообще не хотели социализма и для поддержания своих надежд не нуждались ни в проповедях, ни в световых цепочках. Рихард не мог не признать, что и Хонихи, на свой лад, проявили мужество: они развернули гэдээровское знамя, высмеиваемое и презираемое (притом во многих местах города, как знал Рихард, уже обезоруженное тем, что из него вырезали кругообразный кусок); как бы то ни было, Хонихи присоединились к шествию, и их никто не прогнал, на них просто не обращали внимания.
Проходя по улицам, люди звонили в дома. Не все хозяева открывали, иногда гардина приподнималась и вновь опускалась, иногда собака начинала бросаться на дверь с той стороны и долго не могла успокоиться, а вот у продавца граммофонных пластинок Трюпеля очень кстати оказалась умело сломанная нога с неумело наложенным гипсом: он проковылял на костылях мимо них, сожалея, очень сожалея, что так получилось… Лавка проката одежды Маливора Маррокина по-прежнему оставалась закрытой, без всяких объяснительных записок; так что седовласому чилийцу, хозяину лавки и по совместительству фотографу, так и не довелось заснять ни одного из демонстрантов, чувствовавших себя все увереннее.
…но потом вдруг…
часы пробили:
и вот уже Медный остров опрокидывается под тяжестью народа, столпившегося по его правому борту; красно-бело-клетчатые клеенки, закручиваясь, соскальзывают вниз — туда, где пена и море взбалтываются в одной гигантской воронке; угольные брикеты от избытка воды крошатся и размокают…
(Конферансье, предлагая ордена из обувной коробки) «Берите! Ордена! За победу в социалистическом соревновании! Берите же! Тут всего полно! Даром!»
великаны на высотном доме Кроха в Лейпциге гулко ударили своими молотками по колоколу, Филипп Лондонер сидит один в затемненной комнате, рабочие бумагопрядильной фабрики выключают машины и присоединяются к демонстрантам, около ста тысяч человек собралось в этот понедельник, они маршируют к центру города, к увитому розами зданию университета, к концертному залу «Гевандхаус», сверкающему, словно кристалл, на фоне сумеречного неба: народ, который пробует голос, который не позволит больше водить себя за нос, которому до тошноты надоели ложь и решетки…
(Эшшлорак) «Крот, слепой в темной утробе земли, утром ли, вечеров ли, ночью ль — для него нет времени; он, конечно, боялся; но без времени . Судно с безумным капитаном и безумной командой, наполненное шумом и яростью, странствующее между Вчера Сегодня Завтра… Плаванье, привязанное к Большому Колесу, которое постоянно крутится в тумане и мы, здешние короли, — мы все находимся на одной лопасти-скрижали, на ней же кровью предначертаны возвышения и падения империй, вечное возвращение одного и того же, на краткое мгновение, — догадка о солнечном луче, и любящие, обнявшиеся перед плахой, уготованной им дивным новым миром , в котором чистота понимается как извращенная красота и одна черная утроба порождает другую черную утробу» —
Читать дальше