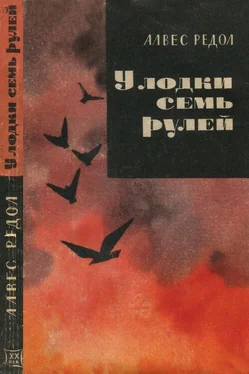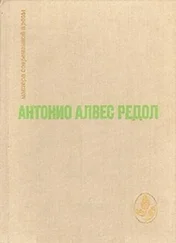— За каждого нашего солдата мы должны уничтожить пятерых солдат противника! — надрывался наш капитан. — А теперь — вперед!
И мы поднялись и побежали, не пригибаясь; впереди был холм, а уж за холмом вражеские окопы, — там стреляли вовсю.
— Убивай, если не хочешь быть убитым! — кричали нам офицеры.
— Смелей, вперед! — рычал Наваррец; в своих длиннющих штанах он был что твой циркач. Я с него не спускал глаз, он с меня тоже.
— Да здравствует Легион!
— Солдат не боится смерти!
— Умереть в бою — честь для солдата! — орал Наваррец перед самым моим носом.
— Да здравствует Легион!
Наконец ввалились мы в окоп, он шел зигзагом до самой линии фронта. И тут уж мы поползли на карачках, и, ясное дело, таким манером ввек бы не добрались до места боя. Наваррец то и дело оборачивался и окликал нас по именам — подгонял. Отличиться небось хотел: вот, мол, его взвод первым в атаку вступил. Потом не выдержал он, побежал вперед, ну и мы, значит, за ним пробираемся по этой кишке, а у меня одна думка: как бы отсюда смыться. Да только вижу — нет никакой возможности. Что ж, значит, и взаправду остается «убивать или самому погибать», потому как сзади напирают офицеры с пистолетами, а впереди — пулеметы, куда тут удерешь? Офицеры кричат во всю глотку и гимн поют все, значит, боевой дух наш поднимают, мы тоже, пьяные, горланим что есть силы, а в двух шагах уже пулеметная стрельба, и ружейные залпы, и гранаты рвутся, и наша артиллерия бухает, да все вроде невпопад.
И люди бежали, топтали раненых — своих же товарищей, а то приканчивали их на ходу выстрелом из винтовки. И все молили бога об одном: хоть бы подвернуться под счастливую пулю — получить рану полегче! Все, все об том в душе бога просили. Ни в сторону, ни назад не подашься — зажаты мы в этой дурацкой кишке, да и Наваррец в три глаза следит, чуть что — мигом прихлопнет. Вокруг тьма, кровь, в горле — клубок, дыхнуть нечем, в животе все дрожит мелкой дрожью, и только мочишься со страху, как младенец. Пули так и шлепались о мешки с песком, что навалены были по краям окопа, и стоило кому-нибудь высунуться, чтоб гранату кинуть, как он тут же валился навзничь, раскинув руки и выпучив глаза, — сроду не видывал, чтоб у людей глаза такой величины были.
И вдруг меня словно ударило: гляжу, нет Карлоса рядом! Я туда, сюда, вперед, назад, кричу, зову, зову моего Карлоса, моего брата, моего брата Карлоса Арренегу, а Наваррец мне кричит — хватит, мол, тебе нюни распускать, на войне надо быть мужчиной. Тут будто с ума я спятил: привалился к мешкам и давай стрелять. Пулю за пулей выпускаю, а куда, не вижу, глаза мне режет, стреляю, а слезы застят мне все. И кричу я французу, что со мной рядом находился, глаза, дескать, мне засорило, ничего не вижу. Он не понял меня (по нашему-то он не говорил), а только головой закивал и тоже мне на свои глаза показывает — и у него, вижу, слезы катятся. В ту минуту я тоже готов был завопить: «Да здравствует смерть!» Жизнью своей ничуть я тогда не дорожил и коли б додумался, что стоит лишь башку маленько высунуть, — и готово (они, дьяволы, промаху не давали), так, ей-богу, по трупам бы вскарабкался и вылез из окопа — пусть бы все разом кончилось.
«Да здравствует смерть!» Она уже стояла у нас за плечами. Вот упал рядом со мной француз с продырявленной головой — прямо посередке дырка, и кровь из нее хлестала фонтаном, все альпаргаты мне промочила. Были они поначалу белые, потом побурели от пота да от пыли, а теперь вот красные сделались — от крови моего товарища, а там, глядишь, и почернеют, когда сожгут меня в куче с другими мертвецами… Вон их сколько кругом валяется, и ни один из них не скажет мне, где мой брат Карлос, Карлос Арренега, который покинул свою родину, потому что не хотел быть солдатом.
Я еще покричал его, но больше не стал высматривать по сторонам и оборачиваться — не с руки мне это было, — я без передышки палил и палил прямо перед собой, но все-таки ждал: вдруг он сейчас подползет ко мне, пристроится сбоку, и мы будем палить с ним вместе — в кого, зачем, этого я так и не понимал, — выходит, задаром нам вдалбливали про нашу великую миссию.
— Умрем во славу господа нашего! — разорялся Наваррец.
Сил моих больше не было слушать его вопли; казалось, замолчи он — и все смолкнет, все перестанут стрелять и кидать гранаты. А тут уж и вечер близко; хорошо бы всем нам завалиться под оливами да соснуть чуток. И как мне тут на ум взбрело эдакое выкинуть, и сам не пойму, Хвалиться-то мечем, а только огляделся я — вроде никто за мной не следит, я флягу в рот и всю водку, что там была, в себя и опрокинул. После обтер со лба пот и слезы рукавом вытер, взял винтовку в руки, тишком отвел дуло в сторону, хлоп — и голова испанского капрала, этого самого Наваррца, треснула, как дыня, и больше он уже не кричал перед моим носом: «Да здравствует смерть!»
Читать дальше