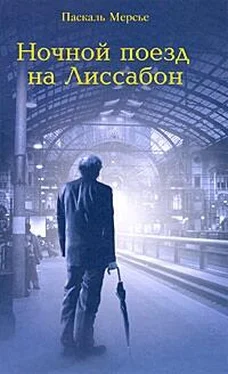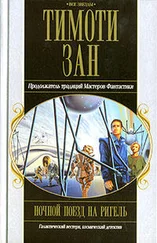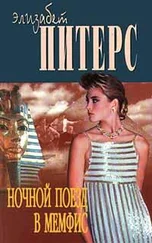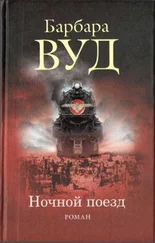Он выдержал эту новую атаку, стоя с закрытыми глазами. Но думаю, он, как и я, узнал эту женщину. Это была жена одного из наших пациентов, которому он годами помогал справляться с раком, днем и ночью посещая его на дому, так и не взяв с нее ни чентаво. «Какая черная неблагодарность!» — первое, что пришло мне в голову. А потом я разглядела в ее глазах боль и отчаяние, пробивавшиеся сквозь злобу, и до меня вдруг дошло: она оплевывала его именно потому, что была ему благодарна за то, что он для нее сделал. Он был ее героем, ангелом-хранителем, посланцем божьим, проведшим ее через тьму мучений, в которой она пропала бы, останься наедине со своим горем. И вот он, именно он, встал на пути справедливости, заслуженно приговорившей Мендиша к смерти. Эта мысль возбудила в душе этой уродливой недалекой женщины такое смятение, что выход был только в подобном выплеске ярости, который чем дольше длился, тем больше обретал от мистического значения, далеко выходившего за рамки отношения к Амадеу.
Толпа будто почувствовала, что преступила черту дозволенного, и начала рассасываться. Люди уходили, опустив глаза. Амадеу повернулся и вошел в дом. Я платком отерла ему лицо. В приемной он сунул лицо под струю воды и так вывернул кран, что вода заплескала из переполненной раковины во все стороны. Лицо, которое он с остервенением тер полотенцем, оставалось бледнее бледного. Думаю, он многое бы отдал в тот момент, чтобы суметь выплакаться. Он стоял и ждал слез, но они не приходили. Со смерти Фатимы четыре года назад он не плакал ни разу. Он подошел ко мне на ватных ногах, словно заново учился ходить. И вот он стоит передо мной, с сухими слезами в глазах, которые никак не желают пролиться, обнимает меня за плечи и прислоняется влажным лбом к моему лбу. Так мы стоим долго-долго, и эти минуты — самые сокровенные минуты моей жизни.
Адриана замолчала. Она проживала драгоценные минуты заново. Лицо подергивалось, но и ее слезы не пролились. Она подошла к раковине, налила в нее на ладонь воды и опустила в воду лицо. Потом не спеша вытерла глаза, щеки, рот. Будто повествовать можно было только в той позиции, она заняла прежнее место до того как продолжила рассказ. Руку она снова положила на смотровой стол.
— Амадеу все отмывался и отмывался под душем. Потом сел за свой стол, вынул чистый лист бумаги и открыл ручку. И все молча. Ни слова не сорвалось с его губ. Это было страшнее всего. Видеть, как происшедшее загнало все слова вглубь, грозя задушить.
Я спросила, не хочет ли он поесть, он только покачал головой. Время спустя прошел в ванную и застирал томатное пятно. К столу он — чего никогда не случалось — вышел в своем халате и беспрерывно водил рукой по мокрым местам.
Адриана чувствовала, что они шли из самых глубин его души, эти неосознанные движения, и внушали ей больше страха, как если бы были осмысленными. Она боялась, что он лишится рассудка у нее на глазах, и навечно останется так сидеть с пустым взглядом, безумец, вотще старающийся оттереть грязь, которой его облили люди. Люди, которым он отдавал всё, все жизненные силы, днем ли, ночью.
Он вяло жевал и вдруг сорвался и бросился в ванную. Бесконечные приступы рвоты вывернули его наизнанку. Ему надо прилечь, бесцветным голосом сообщил он, выйдя оттуда.
— Мне хотелось обнять его, — говорила Адриана. — Но я знала: это невозможно. Он сгорал огнем и опалил бы каждого, кто приблизится к нему.
Следующие два дня прошли так, будто ничего не случилось. Праду был лишь напряженнее, чем обычно, почти невероятно предупредителен с пациентами. Время от времени он застывал в неподвижности и стеклянным взглядом смотрел в одну точку, как эпилептик во время приступа. И еще: когда он шел к двери, чтобы вызвать следующего больного, его движения были неуверенными, словно он боялся увидеть среди ожидающих кого-то из вчерашней толпы, бросавшей ему обвинение в предательстве.
На третий день он сдал. Адриана обнаружила его в утренние сумерки за кухонным столом, его била дрожь. Он казался состарившимся на годы, никого не хотел видеть. С благодарностью он предоставил Адриане самой уладить дела и впал в глубокую депрессию. Он не брился, не одевался. Единственно, кого допускал к себе, был Хорхе, аптекарь. Но и с ним он почти не говорил, а Хорхе слишком хорошо знал Амадеу, чтобы приставать. Адриана рассказала ему о том, что произошло, тот молча кивал.
— Через неделю принесли письмо от Мендиша. Амадеу бросил его нераспечатанным на ночной столик. Там оно провалялось два дня. На третий, в ранний час Амадеу сунул его все также непрочитанным в конверт и адресовал отправителю. Он настоял на том, что собственноручно отнесет письмо на почту. «Но почта откроется только в девять», — пыталась я его остановить. Однако он упрямо вышел на пустынную улицу с большим конвертом в руке. Я смотрела ему вслед, а потом так и ждала у окна. Брат вернулся несколько часов спустя. Шел он выпрямившись, не то что при уходе. На кухне попробовал, примет ли желудок кофе. Все обошлось. Он побрился, переоделся и сел за свой письменный стол.
Читать дальше