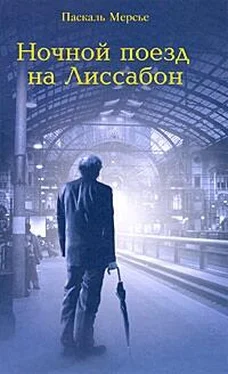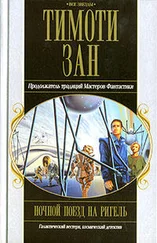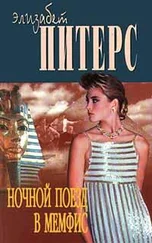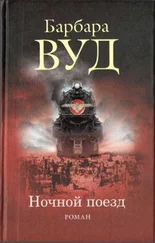Грегориус снова устроился за кухонным столом и начал сочинять письмо ректору. Оно никак не складывалось: то получалось слишком резким, то чрезмерно просительным. В шесть он позвонил в справочную вокзала. Время в пути от Женевы — двадцать шесть часов; через Париж до Ируна в стране басков, а оттуда ночным поездом до Лиссабона. На месте он будет около одиннадцати следующего дня. Грегориус зарезервировал билет. Поезд на Женеву отправлялся в половине восьмого.
Тут и письмо удалось.
Уважаемый господин ректор, дорогой коллега Кэги, к этому часу Вам, должно быть, уже известно, что вчера я без объяснений ушел с занятий, и с тех пор меня невозможно было найти. Я в добром здравии, со мной ничего не случилось. Однако в течение прошлого дня произошло нечто, что многое меняет. Это слишком лично и еще не вполне определенно, чтобы я мог сейчас изложить на бумаге. Просто хочу Вас просить отнестись с пониманием к моему внезапному и необъясненному поступку. Вы меня, я думаю, хорошо знаете и понимаете, что я не мог совершить его по легкомыслию, безответственности или равнодушию. Я отправляюсь в дальнее путешествие и неизвестно, когда вернусь — во всех смыслах. Не возлагаю надежд на то, что Вы сохраните за мной место. Большая часть моей жизни связана с этой гимназией, и, признаюсь, мне ее будет не хватать. Но сейчас я вынужден ее покинуть, возможно, окончательно. Мы с Вами оба почитатели Марка Аврелия. Вспомните вот это место из его «Наедине с собой»:
«Совершай насилие, совершай насилие над собой, насилуй себя саму, моя душа; но после у тебя не будет времени ценить себя и почитать. Ведь всего одна, одна-единственная жизнь отпущена каждому. Для тебя она почти на исходе, а ты все не считаешься с собой и действуешь так, будто дело касается посторонних душ… Однако те, кто не следует за движениями собственной души, неизбежно несчастны».
Благодарю Вас за доверие, которое Вы мне всегда оказывали, и за плодотворное сотрудничество. Вы сможете, я в этом не сомневаюсь, найти нужные слова, чтобы объяснить и моим ученикам, как приятно мне было с ними работать. Сколько у них еще впереди!
В надежде на Ваше понимание и с пожеланиями всего самого наилучшего в жизни и успехов в труде
Ваш Раймунд Грегориус.
P.S. Я оставил на столе книги. Не могли бы Вы их забрать и позаботиться о них?
На вокзале Грегориус опустил письмо в ящик. У банкомата он заметил, что его руки дрожат. Он протер очки, проверил, на месте ли паспорт, билеты и записная книжка. Потом занял место у окна.
Когда поезд отъезжал от перрона в направление Женевы, пошел снег. Большими медленными хлопьями.
Грегориус не отрывал взгляда от последних домов Берна, пока город еще был виден. И только когда их силуэты окончательно скрылись из виду, он вынул записную книжку и принялся составлять список всех гимназистов, которых когда-то учил. Начал он с этого года, углубляясь все дальше в прошлое. С каждым именем он вызывал в памяти лицо, характерные жесты или красноречивые эпизоды. Три выпуска дались ему легко, а после у него все чаще возникало ощущение, что он кого-то забыл. К середине девяностых классы заметно поредели, лица вспоминались все труднее. Дальше стала путаться временная последовательность. Под конец остались лишь отдельные мальчики и девочки, запомнившиеся чем-то особенным.
Он закрыл книжку. Время от времени он встречал в городе бывших учеников. Теперь это были уже не мальчики и девочки, а мужчины и женщины, со своими женами, мужьями, детьми и профессиями. Его пугали изменения, происшедшие в их лицах. Иногда он ужасался, когда видел слишком ранние следы горечи, или затравленный взгляд, или признаки болезни. Но большей частью то, что заставляло его содрогнуться, было простым фактом: изменившиеся лица свидетельствуют о неумолимом беге времени и немилосердном угасании всего живого. Тогда он опускал взор на свои руки, на которых обозначились первые старческие пятна, а иной раз вынимал студенческие фотографии и пытался восстановить в своем воображении весь долгий путь, пройденный им, день за днем, год за годом. В такие дни его страх становился сильнее, и заканчивалось все тем, что он без звонка появлялся в приемной Доксиадеса, чтобы в который раз дать себя разубедить в надвигающейся слепоте. Но больше всего его выбивали из равновесия встречи с бывшими учениками, которые многие годы прожили за границей, на другом континенте, в другом климате и другой языковой среде. «А вы? По-прежнему в гимназии на Кирхенфельде?» — спрашивали они, и по их виду чувствовалось, что они куда-то спешат. По ночам после подобных встреч Грегориус сначала долго защищался от этого вопроса, а потом защищался от того, что должен защищаться.
Читать дальше