* * *
Возможно, в своей жизни он «уже достаточно сделал», как сказала ему одна романистка; это было перед войной, на светском приеме. Она имела в виду, что им написано достаточно, чтобы считаться выдающимся хотя бы по меркам литературной карьеры. Уже тогда это его не утешило. Славы он не хотел, она была ему чужда, как и в двадцать лет. Он защищался от нее разноликостью. (Он всегда путешествовал лишь с одним спутником, с которым прощался, скажем, в Лапалиссе и затем находил себе другого, с кем ехал в Бургундию.) Тем не менее в салоне на авеню Гош он танцевал с хрупкой, словно птичка, романисткой, одна рука которой лежала на его плече, а другая гусиным крылом обвила шею. Уловив кое-какие намеки, он представил ее своей любовницей. Она обладала изящным слогом, ее произведения имели успех. Но для него писательство было убежищем. Он хотел, чтобы все было безотчетно, как в его первые годы работы, когда страница казалась голубятней, где он скрывался от уже изведанных царств. Была встреча, волнующая многообразность. Никакой рассудочности. Начав писать, он не мудрствовал, но потом рассуждения стали его неотъемлемой частью. А хотелось-то одного: бесцельно вальсировать с кошкой.
Церковную колокольню в Барране отреставрировали давно, когда еще была жива мать Люсьена. Роман, кряжистый, но проворный, тоже подрядился работать на пятидесятиметровой высоте, ибо за это платили как нигде. Подвешенный в веревочной упряжи, он отдирал сгнившую обшивку, обнажая остов перекрученной башни. Затем, вместе с другими качаясь на блоках в ее темном восьмиугольном нутре, укреплял несущие балки и на каждом уровне настилал полы.
Два месяца, пока над равнинами гуляли снежные бури, работы шли внутри колокольни. Потом работники вышли на свет и занялись внешней обшивкой. К тому времени Роман стал рисковым, как его работа. Почти всегда он трудился без напарника. Спустившись на землю, он покачивался, точно пьяный, ибо целый день пребывал в напряжении, пока висел на стропах или стоял на краю доски, окруженный вселенной департамента Жер. С высоты просматривались тропы, петлявшие в лесу, Ош в двадцатикилометровой дали и дорога, которой ежевечерне Роман верхом отправлялся домой. Около восьми они с Мари-Ньеж ужинали, а в пять утра надо было вставать и снова ехать в Барран. Если б не эти вечерние одинокие поездки и тихие усыпляющие беседы с женой, Роман сошел бы с ума. В семь утра он уже вновь болтался на деревянной колокольне, цепляясь за балки, вытесанные в тринадцатом веке. Всю зиму он работал на покатой крыше. Самым паршивым было в сумерках спускаться и вновь привыкать к земле.
Однажды ночью выпал снег, ненадолго укутавший землю белым покрывалом. Обычно с первыми лучами солнца он таял, вновь уступая место зелени лесов и полей. Но Роман выехал еще затемно, и на белой пороше его конь оставлял тропку следов, дугой изгибавшуюся к лесу. Роман всегда ездил через обширный Буа-де-Мазер — так на дорогу уходило меньше часа. Отяжелевшие ветви шаркали его по плечам, роняя снег на его колени и лошадиный круп. Роман бросил повод, чтобы конь сам выбирал путь и запомнил, как возвращаться.
Откинувшись на спину, сквозь ажурный полог он смотрел в небо. В эти ничейные минуты он вел себя как мальчишка. Брошенный повод чиркал по коленке, мыслей не было вовсе. Для него, неграмотного мужика, который говорил лишь в случае необходимости, всякое движение было полно смыслов и допускало разнообразные толкования. Заминка в ответе жены или начальственный тон прораба сообщали ему даже больше чем нужно. Раздумье о сороке, с чем-то ярким в клюве сиганувшей с дерева, медленно крутилось в его голове, точно мельничный жернов.
Когда Роман въехал в лес, птицы еще не проснулись. Первый щебет окатил его, будто волна. Дубы и буки шорохом вторили птичьему пению и перекличкам, создавшим впечатление многоголосого базара. Для Романа корова, свинья или испуганная собака ничем не отличались от людей — они точно так же проявляли себя тоном и жестом. Выражение морды извещало о сломанной лапе или жажде. Но птичьи трели, которые он любил, оставались великой тайной. Он подлаживался под их безмерный строй, в котором была вся лесная и небесная жизнь. Где бы ни работал, он всегда улучал минутку, чтобы заглянуть в лесок или рощу.
По глазам резанул свет с открытого поля; Роман сел и вдали увидел перекрученную колокольню. Со стороны он казался ко всему равнодушным. Когда Люсьен донимал соседа насущными, на его взгляд, вопросами, тот редко отвечал, но просто показывал пальцем или отмалчивался, считая, что потом все само разъяснится. Лишь после того как мальчик, потеряв глаз, замкнулся в себе, Роман стал к нему чуть мягче. После свадьбы он не доверял чужакам. На узкой улице жался в сторону, давая встречным дорогу. Но, почти неимущий, он бы сразился с легионом, защищая свои небогатые пожитки — кровать и стол, а еще двух лошадей и свиной выводок — и то, что считал по праву своим: женины руки и лесную тропу. Все другое было ему чужим и даже враждебным.
Читать дальше


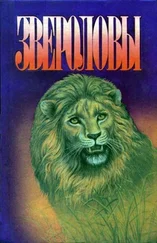







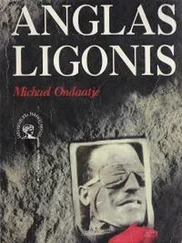
![Майкл Азеррад - Come as you are - история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном и записанная Майклом Азеррадом [litres]](/books/392533/majkl-azerrad-come-as-you-are-istoriya-nirvana-ra-thumb.webp)
