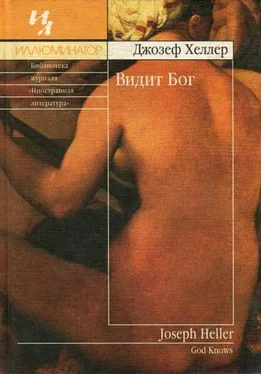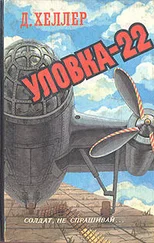— И что это значит? — спрашивает Соломон.
— Ты не усматриваешь морали?
— Но я-то буду строить там башни и высекать цистерны.
— Там не бывает дождей.
— А какая мне разница? Там и людей не бывает. Когда я закончу, у нас будет храм Соломонов, и дворец царя Соломона, и Соломоновы конюшни, и копи царя Соломона. Не беспокойся, ты тоже прославишься. Как кто запоет осанну мне и моим бессмертным трудам, так сразу и вспомнит, что ты был моим отцом. И вот, все это время, пока я приучаю себя думать хотя бы по часу в день, мой старший брат Адония безрассудно тратит деньги на себя, на пятьдесят колесниц, на скороходов, которые бегут перед ними — совсем как перед Авессаломом, — и на расточительные банкеты, в которых нет никакого смысла и которые не приносят тебе почестей. Ты пойдешь на его ужин, папа? Говорят, обслуживание там будет ресторанное, а вся еда — разогретой. Это мне мама передала, и еще она велела спросить, пойдешь ты или нет.
Мне всегда было трудно думать о моей шаловливой Вирсавии как о чьей-то матери.
— Меня пока не пригласили.
— И меня тоже, — говорит Соломон. — И маму не пригласили, и Нафана, и Ванею. Разве это не начинает походить на заговор, который Адония затеял, чтобы отнять у тебя царство?
— Адония ничего подобного затевать не станет. Слишком ленив. А скажи-ка, хоть кого-нибудь уже пригласили? Он уже начал рассылать приглашения? Назначил день?
— Не знаю. Если маму не пригласят, я тоже не пойду. Разве что ты мне прикажешь.
— Я пока даже не дал Адонии разрешения на устройство этой его вечеринки.
— Значит, ты ее не разрешишь?
— Это Вирсавия тебе велела спросить?
— Мама велела сказать тебе, — методично объясняет он, — что если ты скажешь вот эти слова, которые ты сейчас сказал, то я должен ответить, что если Адония может говорить всем, что он станет царем, то почему бы ему не говорить всем, что он устраивает пир?
— Именно это она тебе и велела сказать?
— Именно это она мне и велела сказать.
— Соломон, премудрое дитя мое, как тебе удалось запомнить такую длинную фразу?
— Так мама мне все на табличку записала. И еще повесила на шею вот этот колокольчик, чтобы я не забыл в нее заглянуть.
— А я-то все собирался спросить тебя о колокольчике. Думал, он у тебя на случай, если ты потеряешься. Ты и мама, вы очень близки друг с другом, верно?
— Мне хочется в это верить, — кивая, отвечает Соломон. — Когда мы с ней вместе, она всегда садится по правую руку от меня. И мы с ней думаем друг о друге только самое лучшее. Она думает, что я — бог, а я думаю, что она непорочна. Скажи, папа, — с великой серьезностью спрашивает он, — может так быть, чтобы моя мама была непорочной?
— Это ты меня озадачил.
— Она ведь два раза замуж выходила.
— Я бы не стал торопиться с выводами.
— Я очень старательно думал об этом.
— То-то я слышал какой-то скрип.
— И еще я все время думаю о том, что у меня будет сорок тысяч коней и двенадцать тысяч конницы. Я хочу наговорить три тысячи притчей и песен сочинить что-нибудь около тысячи и еще пяти. Когда все станет по-моему, то от Дана до Вирсавии все люди будут жить каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, если, конечно, я оставлю каждому и виноградник, и смоковницу. И еще я хочу разрубить пополам младенца.
— О Господи! И разрубишь?
— Разрублю.
— Зачем?
— Чтобы показать, какой я справедливый. Все станут думать, что я ужас какой справедливый.
— Все станут думать, что ты дебил. — Я счел необходимым уведомить его об этом. — Если ты попытаешься осуществить хоть что-нибудь из того, о чем сегодня буровил, ты, полагаю, войдешь в историю как самый большой дурак, когда-либо коптивший небо. Я об этой чуши никому не проговорюсь, но смотри и ты не рассказывай ни единой живой душе. Будем считать ее нашей тайной.
— Но я хочу еще создать военно-морской флот.
— О Боже мой!
— Можно будет плотами доставить дерева кедровые и дерева кипарисовые из…
— Ависага!
Собственные мои многократные нарушения основных человеческих свобод походили на пуканье ящерки, поворотившейся задом к горе тирании, наваленной этим бесстрастным продуктом моих неистовых соитий с Вирсавией. Мы встретились с нею весной, а к осени поженились, благо Урия погиб, а живот Вирсавии, в котором вызревало обреченное на смерть дитя, стал уже округляться. В ту нашу начальную лихорадочную, изумительную, головокружительную пору мы с ней и минуты не способны были вынести в разлуке. Мы безостановочно впивались в плоть друг друга, поглаживая и пощипывая поясницы, бедра, руки, ягодицы и ляжки. Пальцы наши сплетались. Мы обменивались нежными прикосновениями, если уже не слипались в бурных объятиях. Всякую минуту мы распалялись желанием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу