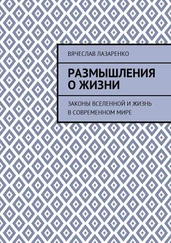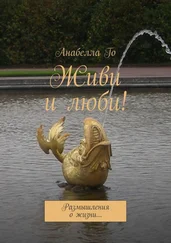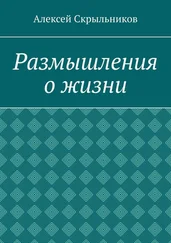Я ничего не понимал и ждал, когда Евдокия Николаевна приступит к важной теме. Я ожидал выговора за легкомысленное поведение в семье, но разговора об этом так и не возникло. Друг Евдокии Николаевны оказался интересным человеком. Он был корабельным конструктором, любил петь, даже писал книгу о певческом мастерстве. Вечер пролетел быстро, но, уходя первым, я остался в недоумении, о чём же Евдокия Николаевна хотела со мной поговорить. Выяснилось это лишь в следующее моё посещение.
— Хватит вам скитаться, — сказала она. — Я хочу пригласить вас к себе жить, мы обсудили это с Дмитрием Васильевичем. Мне одной стало трудно справляться с хозяйством, а вы ему понравились.
Я был очень удивлён, но и обрадован.
— Я буду платить. Только скажите сколько?
— Ещё чего выдумаете?
Через день я принёс свой чемодан и поселился у Евдокии Николаевны.
Для меня была отведена кушетка в комнате без окон. Из мебели в ней стоял комод, над которым висело зеркало. На комоде в рамках стояли фото сестёр Евдокии Николаевны и Павла Николаевича, сидящего за столом в солдатской шинели. Рядом с кушеткой помещался небольшой столик, в ящике которого хранились графические работы её брата. На одной из стен висела огромная картина с тремя фигурами и петухом. Я видел её на слайдах и знал название — "Крестьянская семья". Над моей кушеткой висела небольшая по размеру работа. На ней были изображены две искажённые, вытянутые фигуры. Евдокия Николаевна сказала, что это одна из любимых картин Филонова — "Мужчина и женщина".
Кроме того, в комнате стоял на стуле небольшой железный ящик. В нем хранилась Святая святых — дневники Павла Николаевича и его жены Екатерины Александровны Серебряковой.
Так началась моя жизнь.
Утром я, стараясь не разбудить хозяйку, бежал на работу, вечером у нас начинались долгие беседы о жизни и творчестве их семьи. Особых обязанностей у меня по дому не было, слишком входить в хозяйственные дела Евдокия Николаевна не позволяла. Питалась она очень скромно, гулять почти не выходила. Главным совместным занятием для нас вскоре стало составление каталога графических листов её брата. После смерти Павла Николаевича в блокадном городе она пронумеровала все работы, найденные в его доме. Но на графических работах не было ни названий, ни дат. Мы, разложив рисунки на столе, обсуждали каждую и по некоторым признакам старались определить примерный год написания и придумать листу название. Рисунки были, в основном, карандашные, некоторые являлись эскизами к написанным впоследствии картинам. Этим мы занимались около месяца. Когда работа закончилась, я предложил Евдокии Николаевне начать писать воспоминания о брате. Она долго не соглашалась.
— Что я могу написать? Я же в его работах почти ничего не понимаю.
— А это и не обязательно. Пишите о детстве, о жизни, об интересных встречах. Исследовать работы когда-нибудь будут искусствоведы. Пусть ваши воспоминания станут фоном для его творчества.
В конце концов, мне удалось её уговорить. Однажды вечером она показала мне тетрадь со своими первыми записями. Я обрадовался, попросил почитать, но Евдокия Николаевна отказалась.
— Пока читать нечего. Сама пока не уверена, что что-то получится.
Но я понимал, что работа началась. Она писала днём, когда я был на работе. Вечером по выражению лица я видел, удовлетворена ли сегодня Евдокия Николаевна написанным. После ужина мы долго беседовали.
Пение
Евдокия Николаевна много лет преподавала пение во Дворцах культуры. Она и сама когда-то обладала красивым голосом, выступала в концертах. Однажды она показала мне старую афишу, на которой стояло её имя. В том же концерте читал главы из лермонтовского "Маскарада" Василий Иванович Качалов.
По выходным нас навещал Дмитрий Васильевич. Он приходил на урок. Евдокия Николаевна садилась за инструмент, брала несколько аккордов для распевания, а затем в доме звучала каватина князя из "Русалки" Даргомыжского или русские романсы.
Однажды Евдокия Николаевна пригласила к инструменту и меня. Я был смущён. Несмотря на любовь к музыке, петь я всегда стеснялся. Только однажды во время срочной службы пел во флотском хоре, но это было давно и, помнится, не доставило мне удовольствия.
Евдокия Николаевна для начала попросила меня спеть гамму. На это я был ещё способен. Но дальше стало сложнее — она никак не могла понять, какой же у меня певческий голос. Мой писклявый тенорок то срывался в фальцет, то звучал хриплым баритоном. Управлять своими связками я был абсолютно не способен. Дело усугублялось ещё и тем, что рядом находился невольный свидетель моего позора.
Читать дальше