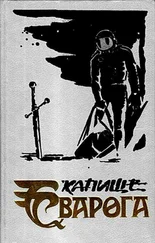Сердце мое билось, как птица, чересчур большая для старой, хилой грудной клетки. Я почувствовал, что задыхаюсь, и начинающееся головокружение вынудило меня, как смертельно раненного быка, искать опору у стены.
Да, это был мой костер без празднества и без зловещих барабанов, Мое одинокое, роковое аутодафе.
Из последних сил я доплелся до Санта-Круса. Кажется, кто-то попытался мне помочь, как немощному старику, на лестнице постоялого двора доньи Эльвиры.
Старик. Старик, идущий к концу и никак окончательно не кончающий свой путь.
В конце концов я решился вернуться в Башню Фадрике. Почти две недели я провел безвыходно дома — все писал, теперь это мой единственный способ жить и встретить кого-нибудь на тропах пустых страниц.
Я понял, что мой гнев был всего лишь странной реакцией, достойной старого мечтателя, не решающегося покинуть свой «дворец грез».
Несмотря на постоянную усталость, удваивающую тяжесть ног, я почувствовал призыв севильских улиц. В них есть что-то волшебное, неожиданное, удивляющее нас, как внезапный свежий ветер, трель птицы или улыбка юной мавританки. С годами Севилья превращается для тебя в живое существо. Она больше, чем некое селение, город или родина. Она живет рядом с тобой как брат, как родной человек. И когда у тебя уже никого нет, она, к которой ты относился потребительски, как к некой декорации или просто месту на земле, превращается в «другого», в друга или подругу твоих последних дней.
Вот что я думал перед тем, как перейти к брани, кляня рои мух на улице Капучинос, ставшей мерзостной свалкой отбросов, где крысы и бродячие свиньи роются в грудах нечистот. Пришлось свернуть на длинную улицу, ведущую к монастырю Санта-Клара, подальше от невыносимого зловония. Очарование моих размышлений улетучилось, и теперь я шел, ругая этот город, нынешний caput mundi.
Увидев меня, Лусинда изумилась. Мне показалось, я догадываюсь, что она догадывается по моему хмурому лицу о скверном настроении, которое привело меня к ней. Она притворилась, будто наводит порядок на столе, потом подняла ко мне сияющее лицо.
— Мне необходимо продолжить смотреть карты, Лусия, я, знаешь ли, забываю места, где бывал.
— Вот они, ваша милость, приготовлены для вас, как всегда. Я ждала вас.
Возможно, это звук ее голоса пробудил в моей душе непривычное, все возрастающее волнение. Мне трудно было дышать. Я задыхался. Еще немного, и мои сухие, словно в пергаментных перчатках, руки вспотели бы. Я не мог с этим справиться.
Мною овладело что-то вроде старческой злобы или бешенства. Похоже на вспышки гнева, ярости безумных стариков в богадельнях.
— Я видел тебя, ты, как сука, повисла на шее мужчины, который тебя побил! На улице, которая идет от Мансебии к Триане. Я следил за тобой!
— Ваша милость не имеет права следить за мной и говорить мне такие слова. Будьте сдержанны, ваша милость!
Кажется, я занес руку и попытался кинуться на нее. Она подвинула стол, разделявший нас. Потом с громким плачем выбежала во внутренний двор.
Кажется, я дрожал, как потерпевший кораблекрушение (в конце концов, таков мой удел). Сердце пугало своими явно неритмичными ударами. (Описывая эту картину на очередной странице, сидя на своей крыше, где с изящным проворством резвятся коты, я усматриваю в ней нечто постыдно театральное. Но я был по-дикарски искренен.)
Кажется, я провел локтем по столу, сбросил все книги и бронзовую чернильницу каноника. К счастью, свидетелей, думаю, не было.
Я возвращался домой, как человек, восходящий на Голгофу без надежды на искупление и блаженство. Совершенно подавленный, бросился на мою жалкую постель, желая сейчас же умереть, умереть всерьез, — стыд из-за собственной несдержанности хуже всякой боли. Смешон тот, кто надеется оправдать себя своими сантиментами.
А я именно таков — жалкий сентиментальный старик.
Я лишился сна и вообще душевного покоя! Я смотрел на рождение дня как на чудо и в сумерках комнаты слушал его долгое, бесконечное умирание — ведь день умирает в звуках, к которым я прислушивался, угадывая их происхождение со своего ложа. Крики детей, играющих в прятки, пока кто-то из них не заплачет, последние удары молотка шорника, стук колес тележки продавца воды, возвращающегося по дороге вдоль стены Алькасара. Потом сильный запах оливкового масла, на котором евреи жарят свою еду.
Рассвет, напротив, — робкое сияние, его нужно воспринимать в тишине. Он проникает в окно, схожий с пугливым вором или с проказником, пробирающимся в дом так, чтобы его не услышали. Сквозь щели жалюзи струится как мутное молоко. Пробирается под дверью. День рождается боязливо, словно человек, приносящий дурную весть.
Читать дальше





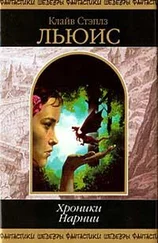
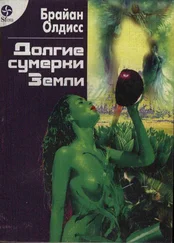
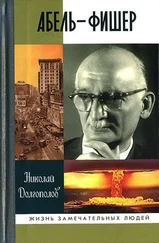



![Брайан Олдисс - Долгие сумерки земли [Теплица]](/books/338105/brajan-oldiss-dolgie-sumerki-zemli-teplica-thumb.webp)