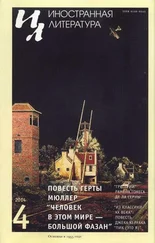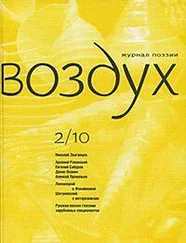— Вот как оно бывает, — сказала портниха, — когда день-деньской торгуешь, а себе ничегошеньки не можешь позволить. Чувствуешь себя какой-то нищенкой, ну вот и хочешь удостовериться, что все-таки чего-то стоишь. Дома-то я с ним не связалась бы. А там я себе на это дело целый день вкалывала. И он тоже.
А вчера заказчица сюда приходила, — рассказала портниха, — надо было ей погадать. Как посмотрит на меня — у меня сердце екает, в карты гляжу — и ничегошеньки не вижу. Пасьянс не сошелся, ну я денег с нее и не взяла. Как-то она меня стесняла. Бывает, какие-то события сразу не разглядишь, точно дым они, всюду просачиваются, и не скроешься. Я заказчице и сказала: «Ты должна день-другой обождать». Однако ждать приходится мне.
Портниха показалась мне как будто повзрослевшей, успокоившейся и выдержанной. Ее дети со своими золотыми сердечками бегали по комнате. Волосы у них разлетались. Мне привиделись два щенка, которые, когда вырастут, потеряются в большом мире, ведь колокольчики у них на ошейниках не звенят.
У портнихи имелась еще одна золотая цепочка на продажу. Я не купила ее, а купила целлофановый мешочек в красную и зеленую полоску. В мешочке — венгерские леденцы.
Я подарила их фрау Маргит, подумала, она рада будет. И что Курт завтра опять придет — об этом тоже подумала. Мешочком я решила откупиться от фрау Маргит, чтобы завтра она не злилась.
Фрау Маргит прочитала все надписи на мешочке, до последнего слова. А прочитав, сказала: Édes draga istenem [5] Сладчайший возлюбленный Господь (венг.).
. На ее глазах показались слезы — от радости, но такой, которая ее испугала, заставив осознать, что жизнь пошла псу под хвост и время для возвращения в Пешт давно упущено.
Фрау Маргит считала свою жизнь наказанием, причем справедливым. Ее Иисус знал — за что, но не говорил. Как раз по этой причине фрау Маргит страдала и любила своего Иисуса день ото дня сильнее.
Венгерский мешочек теперь лежал возле подушки фрау Маргит. Она и не подумала его открыть. Но все снова и снова перечитывала уже знакомые слова на мешочке, как повесть о впустую прожитой жизни. Леденцы же не ела, потому что во рту они исчезли бы навеки.
Уже два с половиной года мама ходила в черном. Она еще носила траур по отцу, когда пришлось надеть траур по дедушке. Приехав в город, она купила маленькую мотыжку. «Для кладбища, — пояснила мама, — и для заросших грядок в саду. Большой мотыгой можно покалечить растения».
Мне показалось — как-то несерьезно вроде, что для овощей и для могил мама завела себе одну мотыгу. «И там и тут все от жажды истомилось, — ответила она, — сорняки нынче рано созрели, семена уже разлетаются. Эдак бурьян всё заполонит».
В трауре мама как будто состарилась. Она сидела на солнце, но в глазах у ней было что-то сумрачное. Мотыжку она прислонила к скамье. «Поезда ходят каждый день, а ты не приезжаешь домой, — сказала она. И выложила на скамью сало, хлеб и ножик. — Есть не хочется, но надо, для желудка, — сказала она. И нарезала хлеб и сало кубиками. — Бабушка теперь и по ночам все ходит-бродит в полях, точно кошка одичавшая. Была у нас такая, все лето в полях охотилась, а в ноябре, по первому снежку, в дом возвращалась. — Мама почти не жевала, сразу проглатывала куски. — Что в поле родится, все в пищу годится, — сказала она, — не то бабушка давно бы померла. Я больше не хожу по вечерам искать ее. Путей-дорог, их сколько, поди знай, а в полях меня жуть берет. Но и одной в большом-то доме опять же не лучше. С бабушкой, конечно, не поговоришь, а все-таки, если бы она возвращалась, вечерами по дому ходило бы две пары ног». Мама ела, не выпуская ножа из рук, хотя все было нарезано заранее. Без ножа в руке слова не шли у ней с языка. «Мак сыплется, — говорила она, — кукуруза уродилась мелкая, сливы не успели созреть — сохнуть начали. Когда я целый день протопчусь тут, в городе, а после вечером раздеваюсь, все тело у меня в синяках. В городе натыкаюсь на что попало, ушибаюсь. Когда вот так бегаешь туда-сюда, вместо того чтоб работать, всё мне поперек дороги становится. Хотя город-то большой, не то что село».
Потом мама села в поезд. Засвистел поезд — и оказалось, голос у него сиплый. Дернулись колеса, поползли по земле тени вагонов, и на подножку вскочил контролер. Одна нога у него еще долго болталась в воздухе.
Под шелковицей стоял списанный мебельный ветеран. Из-под сиденья свешивалась косица из сухой травы. Из-за забора выглядывали подсолнухи, у них не было лепестков и не видны были черные семечки. Эти подсолнухи походили на толстые кисти.
Читать дальше

![Вера Камша - Сердце Зверя. Том 3. Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья [litres]](/books/33376/vera-kamsha-serdce-zverya-tom-3-sinij-vzglyad-smert-thumb.webp)