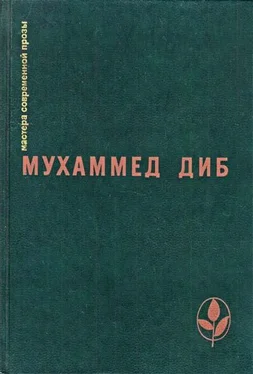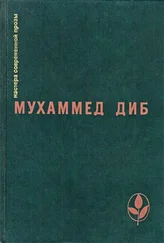— А ты, да-да, ты, который смотришь на меня, ты ничего мне не дашь? Как поживает твоя матушка, братишка? Вместо того чтобы стоять да зевать, поищи-ка лучше в карманах, не найдется ли у тебя мелких монеток для меня: надо же накормить небесных пташек!
И его зеленые глаза смеялись. Ни единого раза я не видел, чтобы он хоть грошик из этих денег оставил себе, разве не был он отцом города? Он тут же подзывал следовавших за ним ребятишек.
— Держите, ягнятки, — говорил он им. — На-ка вот, купи себе мармелада. А это тебе, купишь миндаля.
Несколько раз случалось мне неотступно следовать за ним вместе с другими ребятишками, но ни разу не хватило у меня духа попросить у него монеток. Не то чтобы я боялся нищего, напротив, я испытывал к нему своего рода влечение, которое трудно было объяснить одной лишь раздачей монет. Обычно я оставался в стороне и следил за другими, теми, кто посмелее, а они приставали к нему до тех пор, пока нечего уже было просить.
Хотя они и тогда не унимались, просто так, ради забавы. Забавы, которой он отдавался всей душой. Нет, я до сих пор не понимаю, что мешало мне выпрашивать свою долю манны небесной. Может, это объяснялось тем, что сам я был сыном именитого горожанина и опасался, как бы отец не перестал кормить меня? Не знаю, во всяком случае, это вызывало у меня чувство странной досады, которое долго не покидало меня.
Я смотрю на слепого нищего, усевшегося посреди лавки: Аль-Хаджи приносит ему поесть, прислуживает, словно высочайшей особе. А ведь теперь это всего лишь злобный, жалкий нищий. Но для Аль-Хаджи, казалось, это не имеет никакого значения, он и впредь будет относиться к нему с величайшим почтением.
Словно к праведнику, словно действительно к высочайшей особе, каковой тот продолжает оставаться, о чем свидетельствует каждый его жест и все его поведение. Салах ничем не заслужил немилость, и его падение можно объяснить лишь потрясениями этих страшных дней.
Да, да, он был и остается высочайшей особой… Сердце мое переполняет раскаяние, во мне просыпаются голоса, они твердят о море. Только море с его милосердием может помочь нам разобраться в собственных чувствах. Не поднимая глаз и не видя, что творится снаружи, я слушаю: вот оно, все ближе прерывистый шепот его волн.
Я был уверен, что между этим прошлым и моей нынешней жизнью не существует никакой связи, что все нити порваны, у меня не было ни малейшего желания увидеть призрак того, что кануло в вечность.
Так чем же объяснить это поднявшееся из глубин видение? Почему передо мной внезапно возникла тень былого? Может, это первородная зыбь, та самая, что была когда-то мной? Или эти волны несут мне избавление? Жертвы и тени той скорбной весны, что кружила меня в своем вихре, не плененные и не свободные, эти руки, эти глаза, эти губы, их обагренная кровью жизнь навечно вошли в нашу память и унесли с собой память о нас. Так, с недавних пор я часто вижу во сне свою мать… Даже в собственном доме она всегда держалась в тени, и потому память моя хранит неверный, расплывчатый образ. Ее черты подернуты легкой дымкой, весь ее облик плавает в густой пелене тумана и кажется мне таким далеким, что истинное ее лицо утрачено для меня навсегда. Огромные черные глаза освещают мои ночи, а все остальное тонет во мгле. Утром я беру ее фотографии: ни одна из них не соответствует тому образу, что живет во мне. Я не могу отыскать на них созданные моим воображением материнские глаза, которые устремлены к дальним горизонтам, уж конечно, нездешних миров.
Мать никогда не бывала печальной в собственном смысле этого слова, но и веселой тоже не была. Пожалуй, больше всего она боялась показаться веселой и все время сдерживала себя, стараясь предотвратить легкой улыбкой волнение, которое она могла вызвать у окружающих проявлением своего настроения. Нисколько не принуждая себя, она таким образом незаметно ускользала от всех: и от родных, и от собственных ребятишек.
Отец же сознательно избегал всякого проявления близости в наших отношениях. К тому же один вид его отнимал у нас всякую охоту к этому. Наверное, он был хорошим человеком… Однако в детстве у меня недоставало ни силы, ни отваги, необходимых для того, чтобы сорвать жесткую кору, под которой он прятал свою любовь к нам: я не заметил ни единого знака поощрения, который помог бы мне найти путь к этому сердцу, да и лучше бы ему вообще быть подобрее. Отвергая любой порыв, который мог бы приблизить нас к нему, отец особую строгость проявлял именно ко мне, потому что хотел сделать меня своим подобием и душой, и телом; но независимо от обстоятельств я в гораздо большей степени стал огнем, камнем и водой, чем просто человеком.
Читать дальше