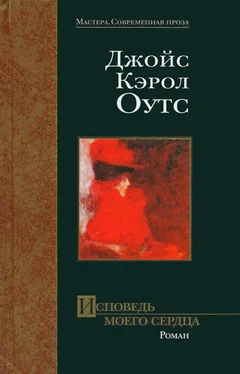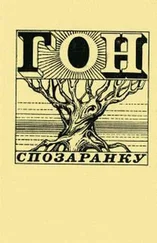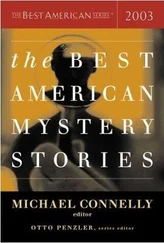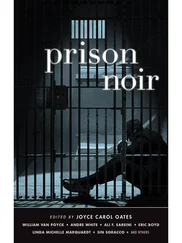— Никакой Игры нет, есть только жизнь. Ваш отец это прекрасно понимает, но не желает признавать.
— Но, Катрина, — умоляли они, дергая ее за рукава, — Игра, что это такое — Игра?
Однако Катрина, небрежно махнув рукой, уходила, а они, оставшись одни, смотрели друг на друга, сердитые и обиженные, потому что они — всего лишь маленькие глупые дети, которые никогда не узнают того, что известно их старшим братьям и сестре, и никогда не будут участвовать в Игре, в которую те играют, в чем бы эта Игра ни заключалась.
III
— Вот и я. Только — нет-нет, я предпочитаю побыть один. Спасибо, дорогая Катрина. Я сказал — один.
Забрызганный грязью, со множеством кровоточащих ссадин и царапин на лице, с искусанной москитами до красноты шеей, отец возвращается наконец домой после трехчасового блуждания по болотам. Громко хлопая дверьми, он направляется в заднюю часть дома, запирается в ванной, а в девять вечера садится за ужин с таким завидным аппетитом, что Катрина не успевает подавать ему еду, по крайней мере в достаточных количествах, хотя не отходила от плиты большую часть дня. Папа ест и выпивает несколько больших кружек пенистого эля; закуривает сигару и чувствует вдруг, как на него накатывает убийственная волна усталости.
Он не хотел, искренне не хотел, чтобы Ксалапу, прекрасную Ксалапу, пристрелили, это не входило в его план, действительно не входило , да простит Бог мою душу, если существует Бог и если у меня есть душа. Какая усталость! Счастье, что он не умеет долго горевать над своими ошибками. Абрахам Лихт вообще не из тех, кто долго горюет. Голова его падает на грудь, и Катрина вынимает сигару из его расслабленных пальцев. Со времен своего бродяжного детства, когда сама жизнь зависела от его бдительности и ловкости, Абрахам приобрел счастливую способность моментально засыпать, как только чувствовал себя в безопасности; сон приходил к нему не постепенно, а наваливался враз. Он — как контракэуерская сосна, хвастался Абрахам, волшебное дерево, которое, если верить молве, не имеет предела ни в росте, ни в глубине корней; контракэуерская сосна — дерево изысканной красоты и силы, оно может расти бесконечно — и бесконечно жить. (Если не вмешаются внешние обстоятельства.) Так же, как День манит Абрахама Лихта, пробуждая в нем воображение любовника, Ночь влечет его вниз, вниз, вниз, к сладострастной кульминации, приходящей во сне . Поэтому мне приходится все время гадать, кто же я: если Абрахам Лихт, обитающий среди теней, не есть мое истинное я, а дневной Абрахам Лихт — не самозванец.
Он спит десять часов кряду. Двенадцать часов. Четырнадцать.
Просыпается наконец, посвежевший и снова улыбающийся. Он целует крошку Эстер и маленького Дэриана, которые визжат от восторга, что папа снова к ним вернулся.
IV
По будням с четырех до шести и с девяти утра до полудня по субботам Дэриан и Эстер занимаются с деревенским учителем. Ибо Абрахам Лихт не допускает и мысли о том, что его чувствительные дети-ангелы пойдут в мюркиркскую школу, где всего одна классная комната, в которой на уроках сидят восемь учеников самого разного возраста (иные из них — сущие хулиганы). Разумеется, когда может, он занимается с ними сам, так же, как в свое время с четырьмя старшими детьми: он преподает им естественные науки, грамматику и ораторское искусство, историю, гуманитарные науки, музыку, этикет, историю древнего мира, математику (как прикладную, так и теоретическую). Он читает им великие монологи из пьес Шекспира, в которых, по его мнению, в миниатюре содержится вся жизненная мудрость.
— Если вы знаете Шекспира, дети, вы знаете все.
Какое было бы счастье, если бы кто-нибудь из детей Абрахама Лихта имел актерский талант! Но Терстон оказался не способен быстро запоминать текст и произносил его настолько невыразительно, что больно было слушать; Харвуд — что с него взять — всегда имел хмурый вид и мямлил; Элайша без малейшего труда запоминал самые трудные стихи с первого раза, словно они впечатывались в его память, но читал их с раздражающей бойкостью, словно насмехаясь над высокой поэзией. (Ибо Элайша, похоже, был предназначен для сатирических ролей. «Под моей черной кожей — черная душа».) Была, конечно, еще Миллисент, очаровательная, хотя и несносная, она читала стихи так, будто это были народные песенки, с притворной серьезностью поджимая губы, морща свой гладкий лоб и заламывая руки на словах: «Прочь, проклятое пятно, прочь, говорю я тебе!» — чтобы изобразить муки совести леди Макбет, после чего вообще, подмигнув слушателям, сбивалась на интонацию Пола Дрессера:
Читать дальше