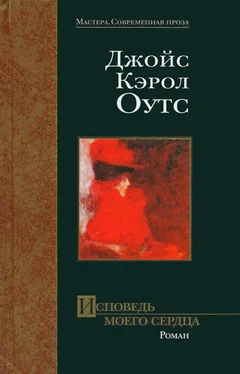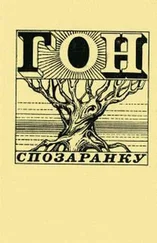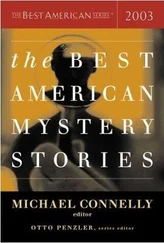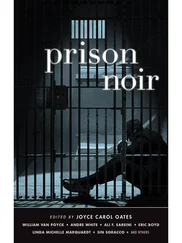— Какие мы счастливые! И как просто быть счастливыми! — с притворным изумлением шептала Милли, горячо целуя Элайшу, когда они оставались наедине; а Элайша, менее беспечный из них двоих, пытался понять, как это может быть — ведь и года не прошло после исчезновения его брата Терстона. Глядя на раскрасневшееся, восторженное лицо Милли, видя ее сияющие глаза, он не мог сказать, счастлив ли он и счастливы ли на самом деле, несмотря на нынешние деловые успехи, Милли или Абрахам Лихт, и вообще — что такое настоящее счастье? Когда Милли бывала весела, безудержно весела, словно инженю в бродвейской оперетте, Элайша считал, что тоже должен ей соответствовать, возможно, она даже испытывала его, чтобы понять, насколько искренне его веселье.
Единственное, что Милли знала об исчезновении Терстона, так это что брата не оказалось в ритуальном зале трентонского Погребального дома, куда его «останки» должны были доставить из тюрьмы и куда Абрахам с Элайшей явились, чтобы забрать его. Он ушел, скрылся, испарился — без следа. И не оставил никакой записки.
— Но как Терстон мог так поступить? — спрашивала Милли с недоверием и обидой, и Абрахам сухо отвечал:
— Не будем говорить об этом неблагодарном — видите ли, он стал «новообращенным христианином». Перешел в лагерь врагов — скатертью дорога!
— Но, папа… — попыталась возразить Милли. Однако Абрахам оборвал ее:
— Я тебе сказал, Милли: никогда больше не будем вспоминать об этом неблагодарном.
Так и было, потому что Абрахам Лихт не из тех, кому можно не повиноваться.
Легенда, существовавшая в семье, гласила, что Терстон и Харвуд отправились на поиски удачи: Терстон изучал в Бразилии возможности «каучуковой торговли», а Харвуд на Западе — возможности «добычи ценных металлов». Младших детей Харвуд нисколько не интересовал, но они умоляли отца съездить в Южную Америку, чтобы повидаться с Терстоном.
— На Рождество, папа! Терстону ведь без нас будет одиноко.
Абрахам весело смеялся, удивленный, но отвечал тем тоном, который означал, что разговор окончен и возвращаться к нему запрещается:
— Уверен, что ваш брат уже привык к «одиночеству».
(— Неужели там действительно не было никакой записки, чтобы объяснить или извиниться, ну хотя бы попрощаться? — по секрету спрашивала Элайшу Милли. И Элайша, притворно воздевая руки, заверял ее так же строго, как и отец:
— Нет, Милли. Папа же сказал — ничего там не было.)
IV
Странным было неустойчивое счастье того быстротечного манхэттенского сезона. Оно оказало противоречивое воздействие на Абрахама Лихта.
Например, он часто говорил о своей смутной тоске по Мюркирку — «по покою». Хотя, конечно же, не рисковал покидать Нью-Йорк, пока дела не устоятся. Он не доверял своим служащим — да и какой наниматель стал бы доверять в такие бурные времена? Полушутя он говорил Элайше и Милли, что без труда построил бы свою финансовую империю, если бы мог заполнить весь штат сотрудников только кровными родственниками. (Его свойственники — Барракло, Стернлихты, Лиджесы, — похоже, доверия не заслуживали. Элайша имел основания так думать. А почему папа никогда не вспоминает о Харвуде? Поддерживает ли он вообще с ним связь?)
И потом, не слишком ли быстро разрасталось Общество? Может быть, благоразумнее было бы ограничить членство в нем? Даже сделать новый ход: мол, дела в Париже так запутались, французские суды так погрязли в коррупции, что процесс был объявлен недействительным из-за допущенных в ходе его нарушений закона, так что следует готовить новый процесс, скажем, к январю 1914 года. Это, с точки зрения Элайши, прозвучало бы вполне убедительно и было бы встречено им с полным одобрением (или облегчением), потому что на данном этапе своей карьеры Абрахам Лихт уже несколько раз стал миллионером — в качестве О'Тула, в качестве Брисбейна, Родвеллера и Сент-Гоура — и мог позволить себе расслабиться. Его состояние находилось в надежных руках — в самых респектабельных уолл-стритских инвестиционных банках — и могло удвоиться или утроиться, если продолжится расцвет экономики.
К тому же Абрахам Лихт, несмотря на всю свою жизнерадостность и оптимизм, был уже не так молод, как даже всего лишь год назад.
Но просматривая, например, за завтраком газеты и наткнувшись на заметку о роскошной свадьбе внучки бесчестного Гоулда, мисс Вивьен Гоулд, и лорда Дисиса, офицера Седьмого гусарского полка его величества, состоявшейся в церкви Святого Варфоломея на Пятой авеню, Абрахам Лихт вдруг осознавал, что не может удовлетвориться теми несчастными миллионами, которые заработал. «Абсурдно для меня, не говоря уж об этих людях, думать, что я — богатый человек». Потому что Гоулды были так богаты, а их империя так огромна, что газеты даже не комментировали тот факт, что сто двадцать пять швей трудились над приданым невесты более года; один свадебный торт, украшенный электрическими лампочками и маленькими сахарными купидончиками с гербом Дисисов в ручках, обошелся в тысячу долларов; отец невесты подарил ей бриллиантовую диадему стоимостью в полтора миллиона долларов; и остальные подарки от таких членов «золотого сообщества», как Пирпонт-Морганы, лорд и леди Эшбертон, миссис Стайвесант Фиш, герцог Коннот, Асторы, Вандербильты и многие другие, могли соперничать с ней по ценности. «Нет, в сравнении с ними Абрахам Лихт — нищий, — размышлял он, — в сущности, его почти не существует. И что в свои пятьдесят два года он может сделать с этим?»
Читать дальше