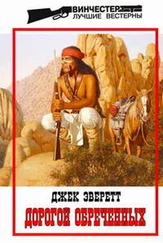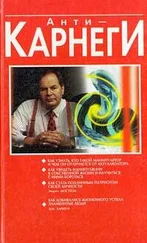Ева стояла и разглядывала его сверху вниз, видя, что вышибла из человека здравый смысл. Но теперь, когда он снова стал собой, она помогла ему подняться.
Детская комната оказалась в два раза больше студии Ma и, что интересно, находилась в одном здании с моей. В полутьме я не различал потолок. Почти все освещение давали терминалы, пульты и несколько ламп. Экраны бросали зловещие зеленоватые отсветы на лица нескольких человек в белых халатах, которые уже «играли» в детской. Компьютеры щебетали, звонили телефоны, но когда кто-то заметил присутствие дядюшки Неда, все вскочили на ноги и посмотрели в его сторону. В нашу сторону, так как я сидел у него на руках.
– Леди и джентльмены, – сказал дядюшка Нед, – это Ральф… Ральф, эти люди – твои новые товарищи.
Я взглянул на мадам Нанну как можно тревожнее, а она успокоительно кивнула, улыбнулась и произнесла:
– Все хорошо.
Дядюшка Нед покачал меня на руках. Я принялся изучать свое лицо в стеклах его очков. Затем вспомнил о ланче – бананы, крекеры и полсосиски – и срыгнул ему на мундир.
– Ну что ты будешь делать, а? – сказал дядюшка Нед, держа меня подальше от своего комплекта медалей. Он вернул меня мадам Нанне. – Кто-нибудь, дайте что-нибудь.
Персонал забегал в поисках салфеток и бутылок с водой. Я искал хоть малейшее изменение хотя бы в одном лице, но ничего не заметил. Промокая свой оливковый мундир носовым платком, дядюшка Нед сказал:
– Хорошо, а теперь все возвращайтесь к игре или чем вы там занимались.
Никто не шелохнулся, и тогда он рявкнул:
– Вольно.
Персонал вернулся к терминалам.
Посреди зала стоял манеж, почти такой же, как дома у родителей, и точно такой же, как в моей с мадам Нанной комнате. Рядом стоял маленький диванчик, а на полу высилась стопка книг. Книг всех размеров и толщины, в мягком и твердом переплете. Мадам Нанна отнесла меня в центр зала и бережно посадила на диван. Сиденье было точно по мне. Ни один взрослый на нем бы не поместился. Мягко, идеально; мадам Нанна включила стоявший рядом светильник. Я взял книгу, устроился поудобнее и начал читать. Персонал коллективно втянул воздух, но я их проигнорировал и перевернул страницу. Кто-то сказал:
– Не может быть.
– Он просто притворяется, – добавил другой. Надо отдать должное мадам Нанне: она не произнесла ни слова.
– Хорошо, – сказал команде дядюшка Нед, – а теперь за работу. – И, отвернувшись от меня, заявил, думая, что я не слышу: – Я хочу знать, как устроен этот сопляк. И эта информация мне нужна вчера. Вы меня поняли, мистер?
– Так точно, сэр.
Затем дядюшка Нед вернулся к нам с мадам Нанной, встал над моим диваном и показал мне зубы. Он по-прежнему тер платком потемневшее пятно на лацкане.
– Нанна, я оставлю вас с нашим парнишкой здесь.
– Хорошо, дядюшка Нед, – сказала она. И мне: – Помаши дядюшке Неду, Ральф.
Я оторвался от страницы и хотел было ограничиться ухмылкой, но все-таки поступил благоразумно: я помахал.
Демон может быть хорошим, плохим или безразличным. Я был тремя сразу. Чем хорош демон, если он не плох? Тогда он вообще не демон. А что страшнее демона, остающегося безучастным и равнодушным к собственному злу? Фактически самая ужасная мысль для того, кто склонен верить в демонов, заключается в том, что никаких демонов нет, что в конечном итоге он сам в ответе за то зло, которое видит, обнаруживает, творит. Следовательно, демоны хороши. А хороший демон должен быть очень, очень плохим. А безразличный демон – это хуже некуда, что хорошо. Из этой massa confusa [207]должно происходить зло, поскольку без него не бывает добра, так мне сказали книги. Бессознательное, однако, противоречиво, рассредоточено, даже безлико и потому не ведает различия между добром и злом. Это я узнал, рассматривая слова на странице, понимая, что, хотя эти слова написаны, может быть сознательно, каким-то автором, теперь они остались одни и потеряли сознательность и даже совесть и, уж конечно, больше никак не представляют те вещи, которые, по крайней мере изначально, должны были представлять. Даже мои записки к Инфлято, отдаленные от момента их создания и вручения (да и сохранившиеся ли вообще?), полностью утратили прежнее значение, разве что остались каким-то знаком для родителей, что я был не плод их воображения. Слова, решил я, хуже фотографий в этом смысле – в смысле обрезания времени до и после изображения, хуже потому, что составляющие части фотографии, по крайней мере, не встречаются в других фотографиях, в отличие от слов на письме.
Читать дальше