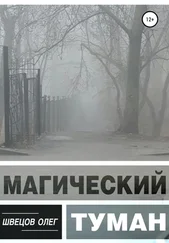Пимокатов в селе тоже предостаточно - более полутора десятков. Но из всех отличалась работа Ивана Обанина да Селивёрста Швецова сделанные ими пимы, хоть взрослые хоть детские, как игрушки, и носили их по три года без подшивки. Более сносно катали Трофим Кастрюля, Иван Лоскутников, Алексей Косинцев. А если скатает Митька Паклин, то проносите только до рождества. Из приехавших позднее переселенцев так же безупречно катали валенки Николай Берсенёв и братья Ерёмины Анисим и Иван. Скатанные ими калоши на сапоги я носил четыре зимы. В селе имелось две шерсточесальные машины, которым хватало работы и зимой и летом. Одна была у пимоката Павла Сыскова. Принимал он шерсть не теребленной, сам обрабатывал её на теребахе, а потом из чёсаной катал пимы. Хороший он был специалист, усердный труженик. Другая машина была у Луки Агаповича Косинцева, у него всегда была большая очередь, так как приносили сюда шерсть не только жители нашего села, но и из других сёл. Плата была с фунта деньгами.
Гордились своей работой бондари. Андрей Гилёв когда - то делал бочата для маслозавода, а потом сменил его Павел Тоболов и Никита Менщиков. Заводу тогда этих бочат требовалось бесчисленное количество, их увозили с маслом, и они не возвращались. А разных размеров посуду мастерили Василий Буйских и Игнатий Черданцев. Такая посуда всегда требовалась и под соления, и под воду в избе и в бане, и на пашне. Нужны были сорокаведёрные кадки, разные лагунки и маслобойки. Деревянной посуды было гораздо больше, чем железной. Делали её из кедрового леса, обручи набивали железные и из черёмуховых прутьев.
Изощрялись в своём искусстве гончары. Многих научил изготовлять глиняную посуду охотник Королёв. Он делал изумительные по прочности и красоте изделия - кринки, горшки, корчаги, бокалы, чайные чашки с блюдцами, разные игрушки и свистки. Этим искусством в совершенстве владела и его жена. После окончательного изготовления каждая вещь звенела и блестела. Их изделия быстро раскупались не только тележихинцами, но и жителями из других сёл. Освоил гончарное производство и портной Свиридов, а позднее Иван Дейкин. С увеличением ввоза стеклянной посуды в артельную лавку, спрос на глиняную прекратился.
Зато спрос на портняжное мастерство был всегда и ни когда не прекращался. Мастерской не было, но пошивом занимались многие. Верхнюю одежду шили Александр Свиридов и Андрей по фамилии Егорович. Работы у них хватало, но заказы выполняли быстро. Мужское пальто шили в три дня, за труд больше всего брали продуктами. Многие для своей семьи шили сами. В основном шили руками, так как машинок не было. А надо сказать, не только нижняя одежда, но и пиджаки и понитки носили холщёвые, особенно в рабочее время. Сшить рубашку из ситца и сатина стоило двадцать копеек.
В каком году, точно не знаю, но до девятисотого года открыл свою торговлю в селе смешанными товарами Морозов. Лавка его была тут же где и сейчас \ рукопись 1965 г. прим. ред.\ Он там и умер, единственная на кладбище могила, огороженная штакетником - это его. Приходился он бийской крупной купчихе Морозовой, каким - то родственником. После его смерти лавка перешла по наследству Николаю Федоровичу Крохову, который торговал до 1913 года. А потом её со всеми товарами продал артели и с семьёй уехал в Бийск, где за рекой купил дом и продолжал заниматься торговлей. В то же время имели свою торговлю, также смешанными товарами, Павел Михайлович Дейков и Семён Терентьевич Таскаев. Дом Дейкова стоял на левом берегу речки Тележихи, возле моста через неё, в ограде поместья стояла и лавка. В те годы в Тележихе был примитивный молзавод. Большая часть населения сдавала молоко, в счёт которого покупали в лавке товары со стопроцентной наценкой. Завод стоял на стыке оград Тоболова и Таскаева. Масло отправляли в Бийск. С организацией артели в 1910 году жители всё реже стали покупать у него товары, и многие стали сдавать молоко на артельный завод. Дейков был вынужден всё продать, купил дом в Солонешном и стал там вместе с братом заниматься торговлей.
Дольше всех со своей торговлей держались Таскаевы, сам Семён Терентьевич, когда их торговля стала приходить в упадок, с открытием артельной торговли, сошел с ума и в 1916 году умер. Но его старуха Мария Ивановна, ещё торговала до 1917 года. Не распроданная мануфактура и товары были ею спрятаны в яме под навесом, но видимо кто - то знал и донёс об этом властям и в 1920 году весь товар был изъят и растащен населением бесплатно. Двухэтажный дом национализирован, в нижнем этаже стал располагаться сельский совет, а в верхнем клуб и библиотека. \ В семидесятых годах всё это сгорело. прим. ред.\
Читать дальше



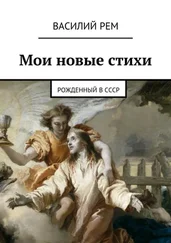
![Павел Швецов - Эльфийка [СИ]](/books/431047/pavel-shvecov-elfijka-si-thumb.webp)