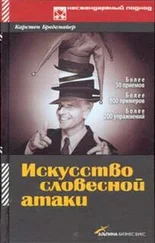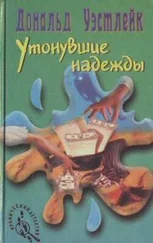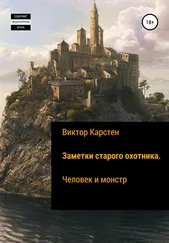— Нету, — сказал Блютус.
Он сидел на коленях у матери, завернутый в одеяло, только голова торчала. Ребенок шмыгнул носом, как будто успел простудиться на холодном вечернем воздухе. И заплакал.
— Поплачь, мой мальчик. Имеешь полное право, — сказал Олд-Фанни, возвышавшийся на своем кресле в центре шлюпки. Он огляделся по сторонам с таким видом, словно чувствовал себя представителем Блютуса. — Ведь только что погиб дом твоего детства.
Они сидели в тишине, размышляя над этими словами. Ведь Херман был прав. Блютусу было два года семь месяцев. И другого дома он не знал, а теперь корабль пропал. Для них он тоже был домом. Лишь немногие верили, что «Нимбус» — счастливый корабль. Но постепенно одна вера сменилась другой. Напряжение воли, тщательный уход за кораблем, а прежде всего любовь к Блютусу удерживали торпеды и бомбы на расстоянии.
И теперь они внезапно ощутили, что напряжение воли ослабло. В этот миг война для них кончилась не потому, что они победили, но потому, что больше не могли. И не было чувства торжества. Неясно было даже, победители они или побежденные. Выжившие, которые теперь хотят отойти в сторону. Они испытывали отчаяние и в то же время облегчение, и тут капитан произнес то, о чем думал каждый из них:
— По-моему, нам пора домой.
Домой… Легче сказать, чем сделать, у членов команды было больше «домов», чем сторон света.
— Насколько я могу судить, — продолжал он, — мы находимся где-то между Англией и Германией. Те, кто считает Англию своим домом, гребут в ту сторону. — Он показал на запад. — А остальные…
— Остальные? — оборвал его Олд-Фанни. — Что ты этим хочешь сказать? На борту, насколько мне известно, немцев нет.
— А мы и не пойдем в Германию. Мы пойдем домой.
— В Данию? — спросила София.
— В Марсталь.
Они распределились по двум шлюпкам. Олд-Фанни остался в шлюпке Кнуда Эрика. Старый моряк покончил с практикой неожиданных исчезновений. Теперь он хотел домой. Антон, Вильгельм и Хельге хотели туда же. Кнуд Эрик задержал взгляд на Софии. Она кивнула. Уолли и Абсалону было любопытно посмотреть на дыру, являвшуюся по всем признакам пупом земли, — так почему же нет?
Провизию и вещи поделили. В каждой шлюпке было по три шерстяных свитера и три комплекта непромокаемой одежды. Их отдали мерзнущим кочегарам. Шлюпки качались рядышком на воде, все обменивались рукопожатиями через борт. Блютус переходил с рук на руки, каждый считал своим долгом его обнять. Он ничего не понимал и волновался. Только что ему пришлось попрощаться с домом своего детства. А теперь приходилось расставаться с половиной живших в нем людей. Он звал маму — последнее прибежище в этом мире.
Они взялись за весла. Олд-Фанни потребовал, чтобы его сняли с кресла и посадили на банку: он хотел внести свой вклад. Одной рукой он греб неплохо, но ему трудно было удерживать равновесие, так что Абсалону пришлось придвинуться и подпереть его плечом.
Вскоре вторая шлюпка скрылась из глаз в сгущающейся темноте.
* * *
Дорогой Кнуд Эрик!
В тот раз, когда я думала, что ты утонул, со мной произошло кое-что, о чем после всегда было неприятно вспоминать.
Я увидела себя без прикрас, а это очень неприятно.
Дело было после полудня, я бесцельно прогуливалась по кладбищу и внезапно очутилась у одного надгробия в северно-западном углу. Здесь похоронен Альберт. Я никогда не ухаживала за его могилой, хотя он — мой благодетель.
Старый Тисен, резчик по камню, красил металлическую ограду. Сорняки он уже выполол, и было ясно, что заброшенная могила в его заботливых руках превращается в памятник одному из крупнейших судовладельцев города.
И тут все во мне — мой страх, моя скорбь, неизвестность, постоянная необходимость что-то скрывать, одиночество, самоукорение, груз ответственности, чудовищные задачи, которые я перед собой поставила, — все это словно разом прорвалось в единой вспышке, неукротимом приступе ярости, поводом для которой была не какая-то конкретная обида, а скорее чувство бессилия, преследовавшее меня всю мою жизнь. Я схватила банку с краской и швырнула в треснувшую серовато-белую мраморную колонну, на которой выбиты даты рождения и смерти Альберта.
И все выкрикивала три слова. Наверное, хотела, чтобы они звучали как приговор, как приговор в Судный день, но не думаю, что те, кто их слышал, испытали что-либо, помимо глубочайшей жалости к явно безумной женщине.
— Пусть все сгинет! Пусть все сгинет!
Читать дальше