Робер Бобер
Что слышно насчет войны?
Знаете что, пане Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?
Шолом-Алейхем. Тевье-молочник [1] Перевод М. Шамбадала. ( Примеч. ред. )
Война закончилась, главное, не начинайте ее снова.
«Фран-тирер» [2] «Фран-тирер» («Вольный стрелок») — подпольная газета французского Сопротивления, выходила в годы Второй мировой войны. ( Здесь и далее, если не указано иное, примеч. переводчика. )
от 8 мая 1945 г.
Меня зовут Абрамович. Морис Абрамович. Здесь, в ателье, меня прозвали Абрамаушвиц. Сначала ради смеха, а потом как-то вошло в привычку. Придумал и пустил в ход эту шуточку Леон, наш гладильщик. Не сразу, конечно, — сразу у него не хватило бы духу. Все-таки бывший узник — это прежде всего бывший узник, даже если он хороший портной-моторист.
В этом деле я кого угодно за пояс заткну. Особенно по части скорости. Я пришел наниматься в начале сезона, по газетному объявлению, и нас было двое на одно место. То есть приходили и другие, с газетой под мышкой, но мы уже сидели за машинками. Второй кандидат был молодой, крепкий парень, и по тому, как он глянул на крой, я сразу понял: мастер. Но прошло сорок минут, я уже притачивал второй рукав, а он только начинал возиться с воротом. Когда же я накинул готовое пальто на манекен, он поднял голову, улыбнулся и сказал, что если б он с самого начала знал, что я гринер , [3] Гринер ( зеленый — на идише ) — только что приехавший эмигрант. В США таких называют greenhorn, во Франции — un bleu. ( Примеч. автора. )
то не стал бы тягаться со мной за это место. Хозяин заплатил ему за готовое изделие, и он ушел искать другую работу. А я остался и понемногу освоился в ателье.
Всего у нас тут три машинки. Одна моя, вторая, прямо напротив, другого портного, Шарля, он знаком с хозяином еще с довоенных времен, но целый день сидит молчком, а третья — самого хозяина, хотя он редко к ней подходит. Шьет только подкладки и образцы, ну, иногда еще что-нибудь по мерке. В основном же его дело — раскрой.
Каждую неделю он приносит от Вассермана материал, разворачивает на своем столе и раскладывает выкройки, чтобы как можно меньше уходило в лоскут. И все время напевает чудные песенки, каких не услышишь по радио. Их пели, он говорит, до войны в мюзик-холле. А мацам Лея, жена хозяина, та если запоет, так на идише. Впрочем, в разгар сезона стоит такой шум от швейных машинок — кто что поет, все равно не слышно.
Вообще-то мадам Лея нечасто заходит в мастерскую, у нее двое детей: Рафаэль, ему тринадцать лет, и маленькая Бетти. Хорошая полная семья.
В субботу мы тоже работаем — все слишком дорожат местом. Но в этот день после обеда мадам Лея приносит нам чай в больших стаканах и по куску домашнего пирога. Молчун Шарль произносит одно слово — «спасибо», выпивает горячий чай — почти кипяток — маленькими глоточками и, прежде чем снова приняться за работу, тщательно протирает запотевшие очки.
Пока мы чаевничаем, мадам Лея смотрит на нас обоих, как будто мы тоже ее сыновья. А потом тихонечко вздыхает и уносит стаканы на кухню.
Того, что успеваем сделать мы с Шарлем, хватает на троих мастериц-отделочниц. Здесь, во Франции, портних-евреек не бывает. То есть бывает иногда, придет молоденькая девушка еврейка, но очень скоро она выходит замуж за портного, и они начинают работать самостоятельно.
Одна из наших мастериц, мадам Полетта, еврейка, но уже пожилая. Ей, правда, хочется, чтобы ее считали гойкой, и она уверяет, будто у нее эльзасский акцент. Но мне сказал Леон, что раньше у нее был натуральный еврейский, не хуже моего.
Есть еще Жаклина и Андре. Ее называют мадам Андре, потому что она была замужем и развелась. Может, поэтому она всегда такая грустная. То есть не то чтобы очень грустная, но никогда не смеется.
Правда, смеются у нас в ателье обычно тогда, когда кто-нибудь что-нибудь расскажет на идише.
Помню, мама говорила мне еще у нас в Шидловце, в Польше, что ее, мамина, мама любила повторять:
— Идиш — самый лучший язык на свете!
— Почему? — спрашивала моя мама.
А мамина мама отвечала:
— Да потому, Рейзеле, что в нем каждое слово понятно!
Но мадам Андре не смеется, даже когда говорят по-французски. Как будто не каждое французское слово понимает. Можно подумать, это из-за нашего выговора, но Леон, гладильщик, считай, во Франции родился, а она и на его шутки не смеется. Когда он первый раз назвал меня Абрамаушвицем, все от смеха аж работу побросали. А мадам Андре стала белая как полотно. Если б я не хохотал со всеми вместе, она, уж верно бы, Леона приструнила: сказала бы, что такими вещами не шутят или что ладно бы шутили неевреи, но здесь, в ателье, среди евреев, которые все испытали на себе!
Читать дальше



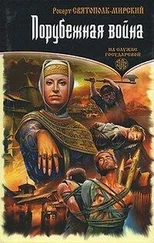


![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)
