На следующее утро я убедился: пани Химмельфарб действительно была без штанишек. Первый раз в жизни я видел эту штучку вот так близко. У меня задрожали руки. Я не мог держать иголку и класть, как положено, стежки. Сорвавшись с места, я побежал в уборную, которая, как и во всех домах в Шидловце, помещалась под лестницей. Едва я успел расстегнуться, как струйка ударила прямо в стенку. Такой сильной у меня еще никогда не бывало. Я почти успокоился и вернулся к работе, но так боялся, что мне опять придется опрометью нестись в уборную, что каждый раз, когда хозяйка вставала с табурета, старался отвести глаза.
После обеда на ней снова появились белые штанишки. Но это не спасло меня от новой пробежки в туалет — стоило вспомнить, что я видел утром.
Я и сегодня, как только подумаю о той мастерской, первым делом вижу уборную, где столько раз стоял, прислонясь спиною к стенке. Потому что и на другой день, и во все следующие мелькнувшее видение опять оживало и каждый раз имело такое же действие.
Не раз, в начале, мне приходилось, отвечая на вопросительный взгляд Химмельфарба врать, что у меня болит живот. Но со временем я научился управляться так быстро, что мои отлучки приобрели вполне невинный вид.
С тех пор прошло двенадцать лет, а жгучее воспоминание о пани Химмельфарб, о том, как она одну за другой спускала на пол ноги, о ее черных глазах, об очень пушистом и очень, казалось мне, нежном кустике, — это воспоминание до сих пор, как бы сказать, не выветрилось и встает передо мной, живое и яркое, всякий раз, как мне случается увидеть обнаженное женское тело.
Однажды — стыдно рассказывать, даже теперь, так это было глупо — хорошенькая пани Химмельфарб, зайдя в мастерскую и, как обычно, поздоровавшись со мной, прошла в соседнюю комнату, где стояли кроильный столик и машинка, прямо к хозяину, который там всегда работал. Я машинально проводил ее глазами и снова занялся своим уроком — обметкой прорезных петель, они у меня выходили отлично, как вдруг легкий приглушенный смех заставил меня опять поднять голову. Через приоткрытую дверь я увидел, как рука Химмельфарба скользнула под женину юбку. Какие там петли! Руки у меня так затряслись, что и думать было нечего о тонкой работе. Меня, как в первый день, охватило до боли острое возбуждение, но теперь я знал, как его утолить: при помощи уже привычного упражнения в каморке под лестницей.
Кажется, никогда еще мой член не был таким напряженным, но только я закрыл глаза, чтобы получше представить себе райскую картинку, и приступил к делу, как услышал громкий всплеск. Я не понял, что это было, и наклонился над дырой, как раз вовремя, чтобы заметить, как исчезает в глубине мой наперсток — в спешке я забыл его снять.
Того, зачем пришел, я не закончил. Все прошло само собой. Меня мучила мысль, как я вернусь и скажу, что уронил наперсток вон туда. Да еще при хозяйке! Я и не смотрел на нее, когда заплетающимся языком пробормотал что-то вроде того, что наперсток выпал из кармана, когда я спускал брюки, и я не успел его подхватить. Химмельфарб расхохотался, а потом открыл ящичек под швейной машинкой.
— На вот, — сказал он, протягивая мне наперсток, — он будет тебе в самый раз. Мне купил его отец, когда я начал обучаться ремеслу. Смотри не потеряй и, когда у тебя тоже появится ученик, передашь ему.
Я никому не передал наперсток. Он потерялся в поезде, куда нас запихнули, когда немцы с помощью польской полиции арестовали всех евреев в Шидловце.
Мы думаем, что хватаемся за голову, но это голова, как сумасшедшая, липнет к рукам.
Пьер Дюмейе
Как я хотел бы вернуться в детство! Он все знал заранее и поэтому плакал.
Жан Тардье. Первое лицо единственного числа
Отрывки из дневника Рафаэля (1981–1982)
Две недели назад Натана похоронили на кладбище Монпарнас. «Монд» поместил некролог в пару строчек. А на кладбище в тот день собрались его друзья. В три часа дня стояла дикая жара.
Болезнь Натана называлась Освенцим — от нее он и умер.
Для всех, кто собрался на погребение, он был человеком выдающимся, друзья произносили речи.
Говорили о том, что его живо волновали судьбы мира, что в послевоенное время он был в первых рядах борцов за прогресс. Отмечали его коммунистические убеждения.
Кто-то аттестовал его непримиримым. Еще говорили, что у него было врожденное чувство справедливости — это верно — и тонкое чувство юмора, что тоже верно, но не так просто. Его смерть называли немыслимой, неожиданной, как будто она внезапно вырвала его из жизни, и забывали, что он был с ней знаком давно и близко. Что он в шестнадцать лет попал в концлагерь да с тех пор так и не пришел в себя.
Читать дальше



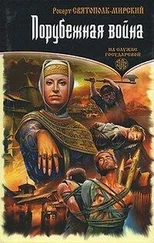


![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)
