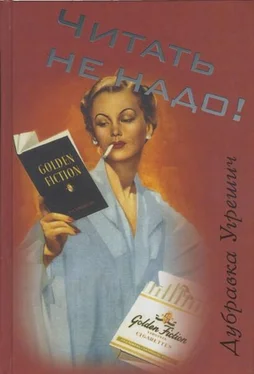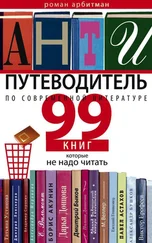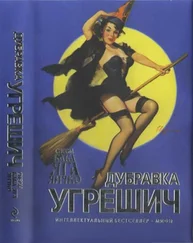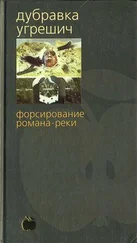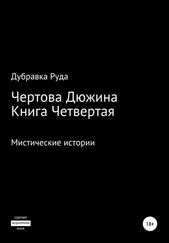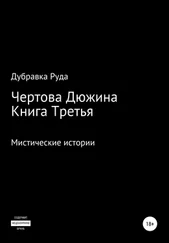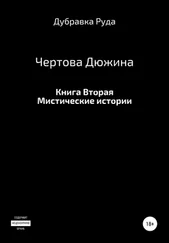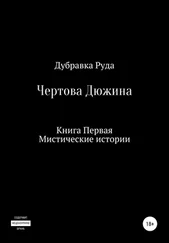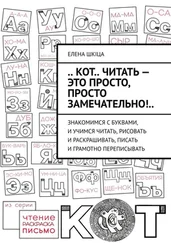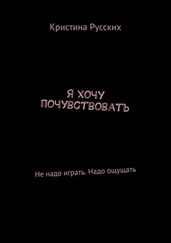Писатель-эмигрант приговорен стать маргиналом, даже если он получит Нобелевскую премию (как, например, Бродский), даже если случится, что он окажется в сердцевине потока массовой культуры (как, например, Набоков), если случай подарит ему славу. Некоторых (как, например, Солженицына) сама их маргинальность сподвигла возвратиться на родину. Ибо лишь среда, нанесшая им раны, знает, как их излечить, лишь она понимает, как польстить пошатнувшемуся «эго» писателя, размахивая его именем, точно национальным флагом, давая ему снова ощутить свою значимость, изучая его в школах, заваливая заслуженными почестями, сооружая ему памятники, называя улицы его именем.
Писатель-эмигрант ощущает себя в тенетах пугающей, душащей свободы. Эта свобода подразумевает принятие статуса маргинальности и изоляции. Избрав эмиграцию, писатель избирает одиночество.
Пытается ли Бог грубовато напомнить нам, что эмиграция — это постоянное состояние человека? (Лешек Колаковский[41])
Каждую субботу я звоню матери в Загреб. У нас установилась некая традиция. Почему-то мать всегда интересует, который сейчас час в стране, откуда я звоню. Мы сравниваем, какая где погода, немного беседуем о житье- бытье. Недавно моя мать, которая давным-давно не покидала Загреб, вздохнув, сказала:
— Знаешь, моя жизнь какая-то не моя. Не знаю, уж чьей жизнью я живу, знаю только, что не своей.
Я молчала, не зная, что ей сказать. Мать произнесла фразу, характерную для эмигранта.
В век Перемещенных Лиц, и эмиграции, и голодающих, и гонимых, твое положение обязывает тебя разделить и пополнить исторически вареный опыт человеческой Жизни… Соберись с силами. Госпожа Удача улыбнулась тебе! (Брейтен Брейтенбах)
Мой первый школьный букварь вызывал у меня восторг. Из-за ярких цветных картинок. Буквы я выучила быстро, а эти самые картинки дали мне первые волнующие представления о мире, полном ярких, насыщенных красок. Мой социалистический букварь пропагандировал «братский союз всех народов и национальностей Югославии». На картинках маленькие человечки были одеты в разнообразные костюмы: у одних на голове были фески, у других — кепки, у третьих — шляпы; одни щеголяли в крестьянских чувяках, другие — в сапожках. Таких людей в повседневной жизни я не встречала; я увидала их много позже, на фольклорных праздниках. Наверное, именно поэтому я росла, убежденная, что все люди одинаковы, только по-разному одеты. Впоследствии мои поездки в разные части Югославии не вселили в меня уверенности, будто ее население — «содружество народов и рас», как наставлял меня мой букварь; но, хотя мне ни разу не попался человек в феске, я, следуя наставлениям букваря, научилась чтить различие между феской и кепкой.
Мой социалистический букварь учил меня также, что «все народы земного шара — белые, желтые, черные — братья». Особенно волновали мое воображение картинки, изображавшие детей с желтой, черной и белой кожей. Но вокруг себя, в реальной жизни, во всяком случае в Югославии, я не встречала ни черных, ни желтых детей.
Югославская пропаганда многонационального и многообразно культурного общества показала свою несостоятельность много позже, когда и кепки, и фески, и шляпы отправились воевать, утверждая, что не способны жить вместе. Тогда я встала на защиту югославской многонациональной культуры. Но вскоре эта идея была не только растоптана военным сапогом, но и рухнула сама по себе в иностранном лагере беженцев, где югославы нередко отказывались сосуществовать с иными беженцами, такими же несчастными, но с иным цветом кожи.
И вот моя эмиграция превращается в возврат к ретро — утопии, к картинкам из того самого старого букваря. Сегодня я и впрямь окружена братьями, и черными, и желтыми, и белыми — в Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Амстердаме… Я безошибочно ловлю искру узнавания, я отличаю своих. Киваю, улыбаюсь. Их вера в лучшее не позволяет мне скатываться в цинизм, их стремление выжить сдерживает мои амбиции, их оттесненность на край гасит мою «жажду завоевать признание» (Бродский). Порой, как и моя мать, я чувствую, что не понимаю, чьей жизнью живу, но я быстро прогоняю эту мысль… В конце концов, должно быть, это и есть мой «жизненный багаж».
Нет ничего на свете милее дома
За двадцать лет отсутствия Одиссея народ Итаки сохранил о нем немало воспоминаний, но не испытывал никакой тоски по нему. В то время как Одиссей испытывал тоску по родине, хотя почти ничего о ней не помнил. (Милан Кундера)
Читать дальше