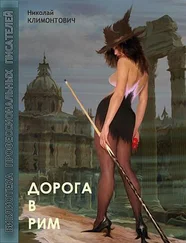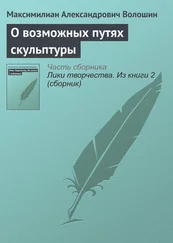Алла была из таких.
Пройдет лет двадцать, она и впрямь будет жить одна в утлой кооперативной однокомнатной квартире с неудобным, узким и изогнутым, стенным шкафом, в который с трудом втискивалась, чтоб достать запрятанное по весне в глубину потертое зимнее пальто, на Коровинском шоссе, автобусы частые, так что удобно; во дворе всё алкаши, бомжи, мусорно, чудь, мордва, татары из казанских деревень, и во всякую погоду сушится ветхое белье на веревках, как когда-то во двориках родной улицы Гамарника…
Но когда мы познакомились в пестром буфете Дома литераторов, — меня туда затащил один писатель, приятель юности, — она была еще молода, под тридцать. Уже в теле, но еще упругая и подвижная, с легкими сильными ногами, с далеко оттопыренным бюстом, хоть и с наметившейся уж, обещавшей стать мощной, холкой, уже с налитыми плечами и твердой, как из бронзы, спиной пловчихи. Образ жизни ее был в те годы бесхитростен: пила водку, говорила с южнорусским акцентом, страшно тараторя не к месту, часто — здесь же, в писательской распивочной — влюблялась в поэтов, тоже как-то невпопад, и, разумеется, сама писала стихи. Любовные и — я не знаток поэзии, даже не любитель ее, разве что Тютчева — на мой взгляд наивные и корявые.
Влюбленности у нее случались не то чтобы по пьяни, — по гульбе. Касание колен под залитым водкой, с окурками в винегрете, буфетным столом, сплетение рук, привораживающий лукавый взгляд сквозь черную челку и зовущая улыбка; в брусничной помаде липкие лакомые губы, а там и первый застольный брудершафт, и — стремительно страстное движение такси сквозь обсыпанный ли снегом, забрызганный ли весенней грязью город, с обжиманием на заднем сидении, — к ней на квартиру: никогда не интересовалась такими пустяками, как — женат ли, холост ли, делит ли свое жилье с мамой, — любовь с первого взгляда, одно слово.
В далеком заводском районе она снимала тогда полупустую квартиру с двумя смежными комнатухами: стол был только на кухне, по матрасу прямо на полу в каждой комнате, заныр, притон, дыра, логово, студия поэта. Здесь же проживала и товарка, юная девица — стыдливо порочный глаз исподлобья — из Молдавии, кажется: и смысл ее пребывания возле Аллы долго казался мне неясным.
Вскоре, после еще пары рюмок на кухне, вновь прибывший возлюбленный оказывался распростертым на матрасе в дальней комнате, и его подвергали горячей обработке, — Анна была не только любвеобильна, но и очень страстна, хоть и на удивление неумела, — своего рода кипячению можно сказать. Она была неугомонна и бесцеремонна, что в ее годы с натяжкой сходило за непосредственность. И повторяла после каждого соития с усмешкой: ты же меня не бросишь, — хоть могла спьяну и не помнить имени партнера. И еще: правда, я самая лучшая…
Для характера Аллы то еще было существенно, что она являлась своего рода белой костью, из золотой одесской молодежи — ее папа был в родном городе директором рыбзавода, весьма уважаемый, вы понимаете, ответственный пост, одного парноса сколько всякий день пересчитать. Папа присылал ей много денег, зарплату провинциального профессора, с лишком достаточных для того, чтобы и жильем обзавестись поприличнее, и одеться получше. Но она эти деньги нещадно погуливала, нищие поэты в ЦДЛ — и ее бывшие, и еще не причастившиеся, а то вовсе случайные — бывали обильно угощаемы. Так что она являлась своего рода королевой буфета, ее появления всякий раз ожидали с нетерпением, ее вход — зачастую с кавалером, которого, впрочем, к вечеру она вполне могла забыть, как бы нечаянно обронить под стол, — был обставлен не без оттенка триумфа. Впрочем, несколько раз понаблюдав за ней, я пришел к выводу, что в этих безусловно тщеславных и богемных залихватских эскападах таилась и доля вполне жалкого расчета: она же все-таки была поэт, и искала помимо удовольствий — признания московской братии, но это было наивно. Протрезвев и встретив ее, положим, в какой-нибудь редакции, недавний собутыльник побежал бы от нее по коридору в противоположном направлении; в крайнем случае, вяло поздоровавшись, сослался бы на неотложные дела, — и рукописи ей постоянно возвращали. Что ж, она не понимала московской издательской кухни, которая все-таки отличалась — и не в лучшую сторону — от правил честного одесского рыбного бизнеса…
Впрочем, было бы неверно сказать, что она была так уж непоправимо ветрена в делах сердечных. Во-первых, она была добра и отзывчива, любила лечить — в прямом, медицинском смысле, умела что-нибудь пришить — в смысле портновском. Во-вторых, ей было все-таки пора искать постоянства, и она искала, — другое дело, оно ей с трудом давалось, южный темперамент и закваска. К тому ж, в этом своем понятном дамском стремлении, она с удивлением то и дело натыкалась на необъяснимый для нее факт: в Москве ей всегда и все неизбежно и варварски изменяли. Не знаю, как уж было у нее в Одессе, по ее рассказам, она была там невероятно в моде, но в столице ее замашки бывшей провинциальной примы с рыночным произношением были чуть комичны, и к ней, конечно, никто не относился всерьез; хоть этого она не понимала, упорно играла свою роль, и подчас мне бывало жаль ее, — впрочем, так и все мы: кажемся самим себе одним, другим — другим.
Читать дальше