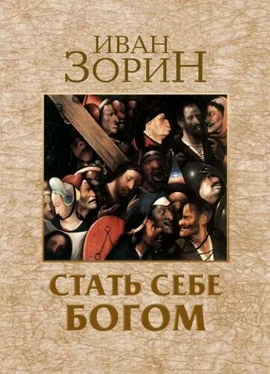«Эх, Ерёма, Ерёма, — подмигивал он из зеркала, — жизнь прошла — остались годы.»
Продать. Освободиться раз и навсегда! Но кому? В юности Гордюжа всюду был своим парнем, но постепенно зеркала, окружавшие его жизнь, опустели, а дорога всё сильнее сопротивлялась ногам. И Еремей Де- ментьевич превратился в затворника. Днём — служба, вечером — телевизор. Оставалось продать героин себе. Но у Гордюжи не было денег, чтобы купить.
До сих пор я жил так, словно прикуривал от чужой сигареты, приспосабливаясь к привычкам Гордюжи. Но могу я хоть раз взбунтоваться?
И я удержал Еремея Дементьевича от того, чтобы высыпать порошок в умывальник.
Женщины думают о деньгах. Говорят о деньгах. И меряют всё на деньги. А своим единственным недостатком считают отсутствие недостатков. Им ничего не докажешь. Они знают всё. И это всё — деньги.
Вот что Гордюжа вынес из семейной жизни.
Когда родился сын, он надеялся. Его кровь, а кровь
не водица. Но, подрастая, сын принимал сторону матери. «Эдипов комплекс, — шипел Еремей Дементьевич,
эдипов комплекс!» Жили под одной крышей, но Гордюжа — сам по себе. «Перекрестятся — и дальше пойдут»,
запершись в ванной, представлял он, как умрёт, развязав всем руки. Когда вместе с бульканьем воды доносилось бормотанье, ему настойчиво стучали.
В семь лет мальчики думают: «Папа знает всё!», в тринадцать понимают: «Отец многого не знает», в восемнадцать уверены: «Отец не знает ничего!», в двадцать пять смеются: «Старик спятил!», а в сорок плачут: «Жаль, отца нет — поговорить не с кем».
Гордюжа скрёб лысину и не хотел ждать. Чтобы не дождаться. Почесав затылок, он пересел в другой поезд.
После развода пришлось тяжело. Раньше он был одинок, как булыжник на площади, а теперь — как тропинка в лесу. Сбрасывая одеяло, он вскакивал ночами, разбуженный собственным криком. А самым страшным из кошмаров была бессонница в тёмной, наглухо зашторенной комнате.
Но постепенно он привык к себе, и ему стало легче.
А мне всё чаще снится его покойный отец. Он сгорблен и старше тех лет, когда умер, будто продолжает где- то стареть. Дементий Еремеевич молча грозит пальцем и укоризненно хмурится, словно ждёт от меня чего-то, что я не могу дать. И я до тех пор гадаю, чего же он хочет, пока, измученный, не просыпаюсь.
Нас обрекли играть в прятки с повязкой на глазах, а когда схватишь то, что ищешь — повязка сползает, и наваливается кромешная тьма.
Директором его школы был Ермолай Нищеглот. «Ер- молай, давай, не лай!» — дразнили его за спиной. А в коридорах расшаркивались, спеша пожать вялую, холодную, как рыбий хвост, руку.
На душе у всех, как в желудке, — пусто и темно.
Это главный урок, который вынес Еремей Демен- тьевич со школьной скамьи.
Найдя героин, Гордюжа дрожал над ним, как скупой рыцарь, и всюду таскал с собой.
Слепило солнце, в траве, как часы, стрекотали кузнечики, отсчитывая короткое летнее время. Еремей Дементьевич ловил на улице взгляды, которые казались ему страшнее смерти, и чувствовал, что явился на свет у чужих родителей, а умрёт по дороге в никуда.
Он ждал автобус, а я записал происшедшее с ним
НА ОСТАНОВКЕ
На скамейке спал бомж. Стоптанные ботинки, свалявшиеся волосы. Под головой — набитый газетами пакет.
Все бомжи на одно лицо. У них всё общее — бесстыдство, тряпьё, запах. Подошли ещё трое, похожие, как матрёшки, — отец с мальчиком и дед.
Ребёнок покосился на пакет, легонько тронул, доставая недоеденную булку, бутылку с пивом на дне. Разделив хлеб, стали жевать. Мальчишка запрокинул бутылку, точно целился в солнце. Потом снова запустил руку в пакет, зашуршали газеты.
Спавший вскочил, как ванька-встанька Но обидчиков трое — не совладать. «Где ж это видано, — облизав сухие губы запричитал он — чтобы бомж у бомжа воровал?»
«Отсыпать ему?.. — подумал Еремей Дементьевич. — Дают же обезболивающее…»
Он взвешивал мешочек за пазухой и чувствовал себя богом, раздающим счастье.
«Ну, чего зыришь — глаза пузыришь?» — оскалился бомж.
И он узнал Ермолая Нищеглота.
Еремей Дементьевич отшатнулся и пош. ёл, размахивая руками точно срывал невидимые яблоки, которые швырял оземь.
В тот день Еремей Дементьевич, неловко просыпая, размешал порошок в воде, мелко перекрестился и запрокинул стакан к потолку.
Так он выбрал себе казнь.
Я ненавижу две вещи — его лицо и его имя. Еремеем его нарекли в честь дедов, которые были тёзками, так что выбора у него не было. Имя ему уже присвоили, а он всё не рождался, появившись только на пятый год после венчания. К этому времени оба деда уже умерли, а имя навсегда осталось старше его. У Еремея оттопыренные уши и блёклые, расплывчатые глаза. Вот он сутулится, продевая руки в рукава висящего пальто, а потом, уже надетое, снимает с вешалки.
Читать дальше