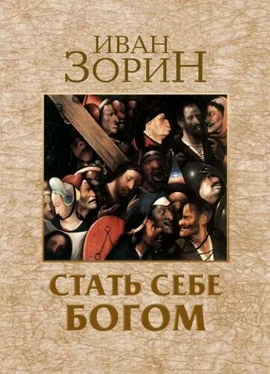Но улыбка выходит кривая.
В начале болезни он ещё брался за книги. Надев очки, перелистывал знакомые с юности страницы, но теперь они представлялись пустыми и лживыми. Они повествовали о чём-то незначительном, постороннем, не имевшем ни малейшего отношения ни к его жизни, ни к его смерти.
«Всё не так.» — раздражённо ворчал он и с ожесточением бросал книги на пол.
Но время умирало медленно, чего только не передумаешь бессонными ночами.
«Что если смерть, как и жизнь, у каждого своя? — глядел он в потолок. — Что если только мне видится всё мелким и ничтожным?»
Елизару Аркадьевичу холодно. Он не может поправить съехавшее набок одеяло, а звать домашних не решается. На часах двенадцать. Полночь или полдень? В темноте не разобрать, а слипшиеся стрелки предательски молчат. Только с восьми до одиннадцати Елизар Аркадьевич не боится разбудить домашних — раньше колокольчиком, теперь негромкими стонами. Утро тогда или вечер, не важно — с восьми до одиннадцати не спят. Вся его жизнь соткана из мелких ориентиров, по которым он движется на ощупь, как слепой. Бывает, сквозь занавеску бьёт одинокий, как луна, уличный фонарь. Что это не луна, можно определить, выждав час, — пятно по стене не ползёт. Фонарь — это знак, что впереди бесконечно долгая ночь, и Елизар Аркадьевич ненавидит его жёлтое, застывшее лицо, которое, бледнея, издевательски усмехается.
Дом многоквартирный, этажом выше идёт ремонт, и это примета дня. «Зачем они обустраиваются?» — слушает Елизар Аркадьевич стук молотка. Старики как инопланетяне: мир уже не принадлежит им, они созерцают его со стороны и всё меньше понимают. Зачем с ним обращаются, как с ребёнком? Он знает, что пережил свой срок. «Ничего, скоро развяжутся.» Но в глубине ему обидно, он думает, что жизнь несправедлива, и готов, как в детстве, грызть ногти.
За стенкой включили телевизор. Ссохшейся гортанью Елизар Аркадьевич издаёт подобие стона. Никто не приходит. Он пробует ещё раз. И сам боится своей смелости. Опять никого. Кому нужны его ввалившиеся глазницы, которые без сожаления прикроют пятаками? Остаётся смириться. И, пока жив, приспособиться. Только как приспособиться к тому, к чему приспособиться нельзя?
На кухне опять ругаются. Елизар Аркадьевич невольно прислушивается, голоса делаются злее, однако слов не разобрать. Почему он умирает вот так? Елизар Аркадьевич морщит лоб, и его не покидает чувство, что жизнь прошла сама по себе, безо всякого его участия.
Зажмурившись, Елизар Аркадьевич возвращается в детство, когда вот так же заставлял сверкать пятна на обратной стороне век, и вот так же был не в силах разгадать их причудливую мозаику. Во сне он теперь часто видит отца, у которого сидит на плечах, как мальчик- с-пальчик — у гиганта. Отец прикидывается слепым, и
Елизар со смехом указывает ему дорогу. Они выходят на просторный двор, где мать уже приготовила завтрак — в окружении горячих ватрушек пыхтит самовар. «Ну, богатырь, слезай!» — улыбается отец, подставляя ногой стул. «Расти, Елизарушка», — умиляется мать, глядя, как он, не доставая до земли, болтает ногами. И вот Елизар Аркадьевич уже сам, притворяясь слепым, таскает на плечах сына. «Мы все, точно карлики, сидим на закорках у жизни, — думает сквозь сон Елизар Аркадьевич. — Всем правит её слепая воля.» И ему чудится, что ещё немного, и он разгадает её тайную цель. А, просыпаясь, видит затемнённое окно, стены с чередующимися, точно брошенными в гроб, цветами на обоях, и в первое мгновенье не понимает, что жив.
Зачем он здесь? За что страдает?
Только теперь Елизар Аркадьевич понял Сократа, скрасившего последние часы философской беседой. Понял, как старик старика. Он и сам бы сейчас болтал без умолку. Или молчал, если было бы с кем.
Раз к Елизару Аркадьевичу явился гость. Он был так чёрен, что в темноте отбрасывал тень. На улице шёл дождь, и с плаща у него капало. «Наследит», — испугался Елизар Аркадьевич, посмотрев в угол. Раньше там стоял платяной шкаф, но, заболев, Елизар Аркадьевич видел, как зеркало удваивает его страдания, и шкаф убрали.
Ничего, подотрут, — прочитал его мысли гость. И вдруг расхохотался: — А ты, значит, детей боишься?
Елизар Аркадьевич опустил глаза.
Что за жизнь! — сел на постель незнакомец. — Детьми боимся взрослых, взрослыми — детей!
Прижав пальцем ноздрю, он громко высморкался, растерев каблуком.
И всё-то делается по инерции: у человека впереди — бездна, мгла, он одной ногой в могиле, а продолжает думать о ничтожных вещах.
Читать дальше