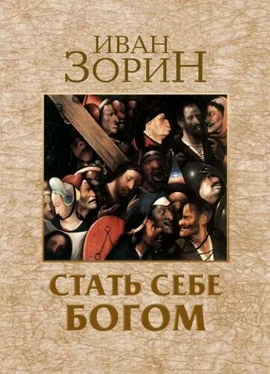А за славой я не гонюсь.
Так не подписывайте книги! — не выдержал Кундуль. — Как иконы.
В доме с палисадом Кундуль любил рассуждать о мире, который представлялся таинственным и в котором он брёл наощупь. Теперь в мире не оставалось белых пятен, и он всё больше молчал, наперёд зная, что случится, точно жил во второй раз. И в его разговорах главное место занимало кровяное давление, за которым он следил больше, чем за тиражами своих книг. «Это раньше вместе с оружием в могилу опускали список подвигов, а сегодня — историю болезни!» — кряхтел он, давно перевалив возраст больниц. «Каждый сам себе либо врач, либо могильщик, — добавлял он к месту и не к месту, и у него не хватало мужества пошутить: «Если могильщик, то и роды примет!»
Вычеркнув себя из списка провинциалов, он сжёг старые рукописи. Но прошлое, как тень, проступало снова и снова, и он знал, что стоит сейчас открыть рот, как оно встанет в полный рост. Испугавшись, Кундуль прикусил палец, как делал это в детстве, чтобы не сболтнуть лишнего, и ему показалось, что, спасая его, сосед рассказывает о своих планах, о том, как его напечатают в столице, куда после свадьбы привезёт свою любовь. Вслушиваясь в его речи, Кундуль обрадованно кивал. Но сосед молчал. И в темневшем иллюминаторе Кундуль вдруг увидел, как, оттянув свитер, с жаром говорит про свой развод, про склоки в редакциях, рассказывает, как, перебравшись в столицу, множество раз твердил: «Слова нужны не для того, чтобы проявить смысл, а для того, чтобы его спрятать», как, отрезая прошлое, взял псевдоним, а теперь, запутавшись, уже и сам не знает, кто он. То и дело слюнявя палец, точно переворачивал невидимые страницы, он жаловался на одиночество, слепоту публики, на унизительные гонорары, за которые приходится кривить душой так, что вырастает горб, на всесилие издательского интернационала, определяющего, кто сколько стоит, признавался, что узнал цену миру, который оказался дешевле слов. Он говорил и говорил, пока вдруг не поймал взгляд, которым одаривают стариков. Опустив голову, сосед уткнулся в книгу, и на мгновенье Кундулю показалось, что они сидят в разных самолётах, которые летят в противоположных направлениях. Ему ещё хотелось открыть будущее, рассказать, что всех вталкивают в жизнь, которую проживают по инерции, хотелось поделиться горечью и предостеречь от ошибок. Но вместо этого закрыл глаза.
Самолёт приземлялся, загорелась команда пристегнуть ремни. Выплюнув леденец, Кундуль огляделся. Кресло рядом пустовало. И ему подумалось, что в другом самолёте у пассажира в цветастом свитере соседнее место тоже свободно.
И увидев Его, просили, чтобы Он отошёл от пределов их.
Мф. 8:34
Свидетельствует Семён Рыбаков, таксист из Новоиерусалимска:
Я увидел его холодным апрельским вечером идущим в город по лесной дороге. Он не голосовал, но я решил подработать.
Куда?
В Лавру.
Служба уже кончилась, храмы закрыты.
Разве церковь может закрываться?
Я пожал плечами.
Мне на ночлег…
«Бродяга, — подумал я. — Денег не жди.»
На свете все бродяги, — прочитал он мои мысли. — А зачем вам деньги, Семён Петрович? Жена от вас ушла, дочь — у тёщи, и достраивать дом, начатый после свадьбы, не для кого. От одиночества вы боитесь спиться, вот и «бомбите» допоздна. Так что нам по пути.
Мы знакомы?
Давно, только вы об этом не догадывались.
Следователь: «И вы ему поверили?»
Рассказывает Фома Ребрянский, московский
художник:
Год назад у меня обнаружили СПИД. Надежд на излечение не было, друзья отвернулись, и я ходил по монастырям, чтобы не сойти с ума или не наложить на себя руки.
Перед Пасхой бомжей в ночлежке набилось, как сельдей в бочке, от тесноты не продохнуть, и запах грязного белья мог выдержать только тот, кому, как мне, было уже всё равно. А когда привели ещё двоих, все недовольно зашипели. В пост и без того скудный рацион урезали, от голода сводило живот, было не до сна, и я предложил свою койку на полночи, собираясь курить в коптёрке. Он посмотрел на меня пронзительно грустно, его глаза светились состраданием. «Какое интересное лицо, — механически отметил я, — просится на холст».
Останьтесь, Фома Ильич, — вынул он из сумки две сушеные рыбы и пять хлебных булок, — покормим братию, а потом меня нарисуете.
Я вздрогнул:
Красок нет, да и темно.
Он вынул краски. И тут мною овладело забытое желание взяться за кисть, так что, пока остальные ели, мы расположились в углу под лампадой. Я решил писать на почерневшей дощатой стене. Такие выразительные лица легко писать, но странно, его образ, до неуловимости подвижный, ускользал, изменяясь, как блик на воде. Я узнавал в нём отца, первого учителя рисования, себя ребёнком, свою мать, бабку, которая умерла до моего рождения и которую знал лишь по выцветшей фотографии, видел девушку, которая не стала моей женой, врача, поставившего мне смертельный диагноз, служившего вчера батюшку. Как в пятнах на обоях, в нём проступали лица друзей, врагов, давно забытых попутчиков, как в очертаниях облаков, угадывались итальянцы, испанцы и голландцы со старинных гравюр.
Читать дальше