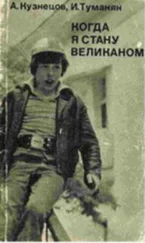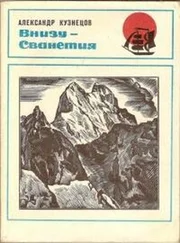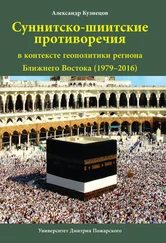Александр Кузнецов–Тулянин - С Г О В О Р — повесть
Здесь есть возможность читать онлайн « Александр Кузнецов–Тулянин - С Г О В О Р — повесть » весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:С Г О В О Р — повесть
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
С Г О В О Р — повесть : краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «С Г О В О Р — повесть »). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
С Г О В О Р — повесть — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «С Г О В О Р — повесть », без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Начинался дождь, крупные капли прилетали с темного неба и разбивались на лице Глушкова, но он не замечал дождя, ни слез своих, ни пота, ладонью размазывал влагу по лицу. И он подумал вдруг, что если не поднимется сейчас же и не пойдет хоть куда–нибудь, то все для него завершится уже здесь, в этой луже, быстро набухавшей в потоках разыгравшегося ливня. Он побрел наугад. И пробираясь вот так бесцельно сквозь заросли, впервые по настоящему почувствовал смысл, вкладываемый людьми в слово «безысходность».
* * *
Когда Скосов и солдат вошли в дом, свет уже горел внутри, обнажая разобранную ночную непосредственность жилья. В дверях в соседнюю темную комнату появилась крупнотелая женщина с гневным лицом. Она, наверное, совсем недавно хватилась исчезнувшего мужа — была боса и на себе имела лишь широкую ночную сорочку из простой мятой белой ткани. В разрезе не вмещались ее объемные толстые округлости, и женщина старательно придерживала рубашку на груди полной рукой. Она, вероятно, хотела сказать что–то резкое Скосову, но увидела за плечом мужа впалое лицо солдата, отступила вглубь комнаты и оттуда заговорила с удивлением и негодованием: - Первый час… Солдата притащил… — Она пошарила рукой за дверным косяком, выдернула оттуда цветастый халат.
- Ша, мымра, — ответил Скосов, не глядя на хозяйку, но весь преобразившись, подтянувшись. И с этих первых его слов сразу угадывалось, что подобные диалоги давно стали привычными в доме, уже, по всему, превратившись в форму общения.
Скосов разулся у порога, вошел в комнату, стаскивая с себя отсыревшую куртку, и сделал раздраженное движение, намереваясь демонстративно бросить эту мокрую грязную куртку прямо на разобранную кровать у окна, на белую чуть мятую простыню. Но в последний момент передумал, кинул ее на старый деревянный стул с гнутой ободранной спинкой.
Солдат замялся, не решаясь ступить дальше порога, но Скосов повернулся к нему: - Давай, сынок, заходи… Шинельку давай…
- Ну, дурак… Ну, дурак, — гундосым голосом сказала хозяйка и, набросив на плечи халат, тяжело пробухала босыми пятками по крашеному полу в коридор. Глушков спешно посторонился, пропуская ее, но поравнявшись с ним, она сказала неожиданно доброжелательным мягким голосом: - Проходи, паренек, сейчас молочка… — И прежним тоном добавила для мужа: — Сам ты мымра…
- Ты давай не молочка, а давай горячего похлебать сообрази, — сказал смягчившись Скосов.
- Да я сыт уже, не надо… — несмело возразил Глушков. Но хозяин беззлобно оборвал: - Цыц! Ты у меня дома, а здесь я решаю. Горячего надо.
Еще по дороге к поселку, когда они обогнули длинный пруд, слабо мерцавший слева, и шли грязной колеей, Скосов спрашивал у солдата обычное, что первое приходило в голову: откуда родом, кто мать, кто отец… И тот вяло отвечал. Но из разговора такого, конечно, ускользало то главное, что и составляет суть людей. Ускользало, что отец Глушкова, несмотря на солидные должности (редактор городской газеты, пресс–секретарь в крупной металлургической компании), был ничтожным беспомощным человеком, тихим пьяницей, которого по–настоящему в жизни интересовали только две вещи: хорошая выпивка и закуска. Для фона ему, конечно, нужна была прилежная жена, которая создавала бы для него уютную питательную среду. Но прилежные женщины, по его убеждению, перевелись на свете, и он давно ушел из семьи просто потому, что, взбалмошная самолюбивая мать Димы, учительница литературы, ничего не умела готовить, кроме бутербродов и яичницы, и в доме ее вообще никогда не было того, что принято считать бытом.
Отец, сменив двух несостоявшихся кухарок, в конце концов сам попал в кабалу к молодой блудливой девице из репортеров его газеты. А к тому времени, когда Дима начал писать робкие заметки в его газету, отец почти спился: каждый вечер по дороге с работы он просил водителя остановиться у ближайшей рюмочной, покупал три стограммовых пластмассовых стаканчика водки — свою терпимую, как он говорил, дозу — и не торопясь, выпивал их на заднем сиденье машины, закусывая дешевой карамелью. Он строго блюл привычку, обретенную еще в годы «сухого закона», когда пить с его номенклатурными склонностями приходилось только тайком.
Мать же Глушкова с молодости мыслила себя в душе Асей, которую выдумал классик. И так, на всю жизнь она и осталась выдуманной женщиной. В квартире их где ни попадя валялись книги и вещи, ржавая подтекающая мойка на кухне была нагружена грязной посудой, а под ванной в многолетних сырых хламных залежах среди почерневших молочных бутылок, которые не выпускались промышленностью уже несколько лет, росли маленькие бледные грибки на тонких ножках. У матери были романтические движения; она могла забыться и тогда, не замечая сына, она словно репетировала свое общение с кем–то: жесты ее становились неторопливы и неопределенны, и губы что–то нашептывали сами собой. С сыном она разговаривала только о литературе. Он так и вырос — среди Болконских, Карамазовых и тараканьих полчищ. И если бы не бабка его, мать отца, ведьма с ядовитым черным взглядом, которым она могла придавить любого, с ее властностью и суровостью, но и с ее притягательностью, потому что сила всегда притягательна, он, пожалуй, и сам бы влился в тягуче–размеренную жизнь, скучную, но спокойную, которая бесцветной слизью расползается по пространству и времени: институт, газетная работенка, карьерка, две–три кухарки… Он теперь думал, что именно старуха, парализованная на левую сторону, почти не слезавшая со своей провонявшей кровати, во всем и виновата. А он и не знал: ненавидеть ли ее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «С Г О В О Р — повесть »
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «С Г О В О Р — повесть » списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «С Г О В О Р — повесть » и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.