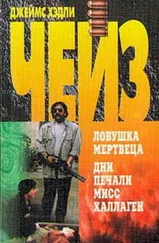Когда я вышел за Варницу, мартовское солнце пригревало еще холмы и овраги. Овраги теперь не гремели, а выли, будто волчья стая. Травы пахли так остро, что у меня под ложечкой засосало… ладно, не буду об этом. Солнце совсем подошло к Сакар-горе, остывающие лучи его сжались, стали как медная проволока. Вот уж пятый десяток мой кончается, серьезные подошли года, а я, странное дело, все себя мальчишкой чувствую, как в ту пору, когда с Павлом, Борисом и Сашкой под флагом старого Постолова и ротмистра деда Орача бурлили мы в нелегальной работе.
В Армудово притащился я к ночи — и пешком шел, и на коне ехал, и на осле, и на муле, на лодке плыл, на пароме и на плоту — на всем, что по пути попадалось. Пятнадцать километров всего, а за океан, в Гавану, и то быстрее на самолете слетаешь.
Маленькую площадь, посреди которой постанывал больной вяз, обступило домишек пятнадцать, точно утиный выводок, притулившийся у болота. Вокруг темнели заросшие виноградником холмы. Между конторой и сельмагом помаргивал электрический тусклячок, и мне вдруг, верьте не верьте, почудилось, будто выплывают на конторское крылечко де́вицы в узорчатых елховских сукманах, сбоку выстраиваются пожилые женщины, покрытые чемберами, за ними старики в расшитых галунами потури [6] Сукман — домотканое платье без рукавов; чембер — головной платок; потури — крестьянские штаны из домотканой шерстяной материи.
. Даже звонкая волынка кинулась в уши. Была, была здесь когда-то жизнь, да пропала, до боли близкая жизнь, близкая даже вам, друзья мои из многоэтажных кооперативных домов, ведь небось и по вашим кладовкам догнивает какой-нибудь отставший от пары царвуль [7] Крестьянская обувь из сыромятной кожи.
.
Армудовские угодья входят в виноградарское хозяйство, получившее имя по соседнему селу Юрт.
Простучал где-то поблизости батожок сельсоветчика, и сам он появился — старик в лохматой козьей шапке.
— Дядя Пройко, ты в больницу звонил?
— А кто же еще, об чем разговор, доктор Мишо? — ответствовал он, опахнув меня сильным запашком виноградной ракии. Губы едва пошевеливались на сухом лице под надвинутой мохнатой шапкой. Подошли к крепкому одноэтажному дому, освещенному яркой лампой.
— Вот оно, Юрдечкино царство, — сказал старик и повернул назад к площади.
Я нащупал засов, ступил в чисто прибранный двор. Стукнула балконная дверь, и стук этот тотчас поглотился душераздирающим женским криком. На ступеньках появилась низенькая и округлая, точно утка, старушка в сукмане. Поднесла ладонь ко лбу, сердито окликнула:
— Кого несет?
— Участковый врач, тетушка…
— Баба Гораница я по мужу, зовут Еличкой, по фамилии Габарова. Только все меня кличут Юрдечкой. Ты, что ли, доктор Мишо?
— Собственной персоной, тетушка Гораница.
— Чего-то ты опозднился…
— Что у вас там, наверху, делается? Будто с жизнью кто прощается.
— Рожаем мы, а вовсе не помираем, сына рожаем.
— Как рожаете? А я к больному иду.
— Начальство-то рази путем растолкует, мелет не разбери чего.
Обмениваясь на ходу дипломатическими любезностями, мы прошли через просторные освещенные сени, где еще слышней стал истошный крик, в натопленную кухню. Только тут я заметил, что весь я потный и грязный, и нитки сухой на мне не осталось. На печке грелась в медном чане вода, побулькивала алюминиевая кастрюля. Я мигом унюхал, что готовится курятина с кислой капустой. В ящике со стружками попискивали беленькие пушистые цыплята, точно приговаривали: «Иди, иди, иди!» Бабка, вовремя углядев плачевное мое положение, засуетилась над сундуком, приставленным к топчану с белым домотканым одеялом.
— Делать нечего, доктор Мишо, скидавай свою мокреть, обряжу тебя в шахтерскую робу, от сына осталась. А ты, сношенька, потерпи. Она у нас первым мучается, сердешная. Все одно потерпи! Мишо пришел, недолго ждать. Расквохталась, чисто несушка. Все мы неслись, да только так не квохтали. Господи, куда ж это я, растрясуха, одежу-то запропастила? Хоть бы впору тебе пришлась, доктор Мишо. Уж больно ты раздобрел, сынок. Один, чай, у отца с матерью, а? Носются с тобой, как с пасхальным яичком? А как же, вот и мой тоже один, взрывником работает в варницком руднике. Там и живет на квартире. И сноха моя, Ганка, кричит-то которая, и она в руднике работает. Только под землю не лазит, а все наверху бумажки пишет. Какие там есть бумажки, все она и пишет. Сынок-то, в меня он пошел, навязал жену на мою голову. Мама, говорит, пусть у тебя рожает, я хоть дух переведу. Мы в апреле ждали, а малец заторопился. Дай-ка я тебя оботру полотенцем, продеру хорошенько, а потом уж к Гане пойдем. А в суме-то этой у тебя чего? Еда!.. Ты что ж это, гостенек, осрамить меня хочешь? Будто уж у Юрдечки и чем попотчевать не найдется, такая она прижимистая? Этот поди баламут меня оплел — Пройко?.. А одежа-то у тебя больно хороша цветом. Овощем отдает: не то баклажаном, не то свеклой.
Читать дальше