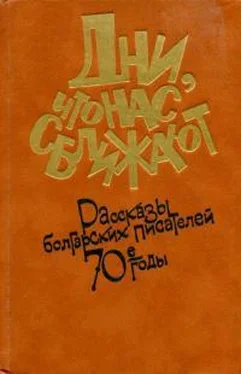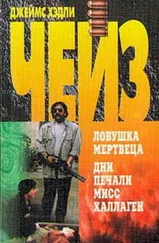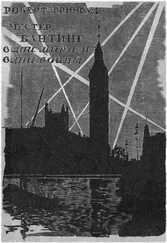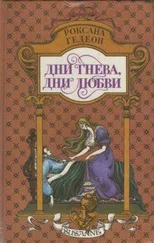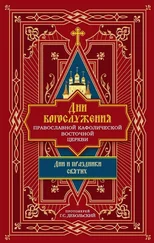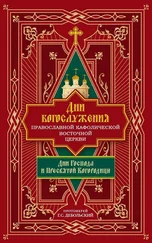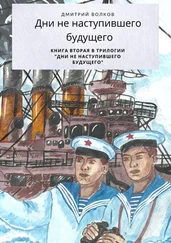Когда колокольцы Демира завладели всей долиной, мастер стал нередко выходить по вечерам на холмы у села и прислушиваться: пока овцы шли по дороге, волнами доносились голоса всех колокольцев; когда они забредали на редкую мягкую травку и щипали лениво, слышны были только малые колокольцы; на густую и высокую траву овцы накидывались с жадностью, и тогда подавали голос и большие. Слаще этих вечеров не было в жизни ничего у Демира — так рассказывают его односельчане. А незадолго до второй мировой войны однажды вечером мастер пережил такую же радость, что и в день, когда отара его брата прошла мимо старого мастера и тот не обнаружил его колокольчика среди своих. Случай этот говорит не только о Демире, но и о боли каждого мастера, который, даже достигнув вершин мастерства, все еще живет в тени, отбрасываемой именем его предшественника. Возвращается откуда-нибудь Демир, проходит угодьями другого села, где мало кто его знает, встретит в поле старика, прислушается к колокольцам, покажет на отары и спросит:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанский мастер, — ответит старик, — карапчанец.
— Карапчанец? А зовут как? — спросит карапчанец Демир.
— Карапчанец Стеван, — ответит старик, — его все знают.
Идут годы, все чаще Демир останавливается среди чужих пастбищ, прислушивается к колокольцам и спрашивает:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанец.
— А зовут его как?
— Да как — карапчанец Стеван!
Пройдет он по селам днем — видит: колокольцы старого мастера остались лишь у старых чабанов; большая часть колокольцев — его, Демира. Снова бродит он по окрестным холмам, спрашивает стариков и по-прежнему слышит имя Стевана, пока однажды вечером, на заходе солнца, когда отары уже ушли далеко в поле, не встретил Демир старика с тяпкой на плече и не спросил его, показывая в сторону высоких вязов на взгорке:
— Кто ковал эти колокольцы?
— Карапчанец, — ответил старик и, сняв тяпку с плеча, оперся на нее, готовясь к долгому разговору.
— Карапчанец? А зовут как?
— Карапчанец Демир. Он себя посильнее мастером выказал, чем тот, старый, превзошел того. Вон у реки колокольцы — те старого мастера, но Демировы — лучше!
— Дай тебе бог здоровья, — пожелал ему Демир, вытащил из пояса золотой, положил в руку старику и пошел дальше своей дорогой…
Все чаще слышит он свое имя в разговорах стариков, и все реже поминают они мастера Стевана. Но приходит война, и мастерская его снова заполняется колокольцами. Лишь лет через десять — за эти годы ушли из жизни его отец и жена и появились на свет два сына у брата Димитра — молодежь снова стала заглядывать в его мастерскую, покупать колокольцы для больших кооперативных отар. За эти несколько лет нового расцвета своего ремесла он переболел свое горе — смерть жены — и снова ощутил радость, слушая колокольцы в поле.
Молодые чабаны кооперативных хозяйств один за другим перебирались в город, оставляя овец на стариков, к тому же входило в моду стойловое содержание скота, и колокольцы больше не были нужны. Мастер пошел работать в слесарную мастерскую кооператива, но дела своего не оставил — по вечерам мастерил колокольцы для собственного удовольствия, и ему казалось, что теперь они получаются еще лучше, раз они уже не стоят денег и вознеслись над людской суетой в светлый божий мир. Так говорил он в то время односельчанам, желая придать своей работе какой-то смысл, потому что братовы сыновья, приезжая по воскресеньям в село и заставая его в мастерской, потешались над ним и всем говорили, что их дядька тронулся.
Как-то в октябре 1969 года, в воскресенье, когда мастер, как обычно, работал у себя в мастерской, а племянники его околачивались рядом и над ним посмеивались, перед Демиром выросли трое мужчин в галстуках и с портфелями.
— Нам нужны колокольцы, — объявили они, не успев поздороваться с мастером.
Демир подумал, что и они над ним насмехаются, и окинул их взглядом с ног до головы.
— Что-то вы не похожи на чабанов.
— Ты прав, — сказали они, — мы не чабаны, но нам нужны колокольцы.
— Раз так, берите, — сказал мастер и показал на стены.
— Мало.
Они пересчитали те, что висели на стенах, и сказали, что им нужно еще тысячи полторы.
— В феврале мы посылаем сто человек на кукерский [16] Кукерские игры — старинный народный обычай: на масленицу по улицам с песнями и танцами ходили ряженые, увешанные колокольцами.
фестиваль в город Перник.
— Не выйдет, — сказал мастер, — так много…
Читать дальше