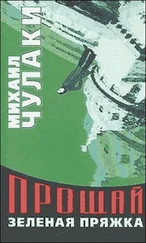Подобные сентенции Филипп слышал от Ксаны много раз, и все-таки не привык и до сих пор обижается: выходит, быть за ним замужем — это доживание, прозябание. И хоть бы была в прошлом примой — нет же, едва выбилась из кордебалета в корифейки, маленькая лебедь в четверке — пик карьеры.
— Зато какое прошлое, Кинуля! Помнишь, как мы?.. Ведь горели, честное слово!
— Только этим и жили! На сплошном фанатизме! В зале по двенадцать часов. И все за закрытыми дверями. Все партии готовили — для себя, потому что знали, что не дадут станцевать. И все равно никакой зависти, потому что выйти хоть в третьей линии — уже счастье! Там сразу какое-то сплошное вдохновение! На сцену! Это же был для нас храм! Разве теперь так относятся? Теперешним поменьше бы поработать — побольше бы в поездки. А в училище преподавателям просто хамят. Я встретила нашу Матушку Кураж — ты ее не знала, она у нас в училище вела характерный, — так она плакала! Ушла, потому что не выдержала. Хотя хорошо, когда раскованные и естественные, вроде как ты говорила, но зато и хамство от этого.
Как так можно про себя: «сплошное вдохновение»! Пусть другие вспомнят и скажут, какое такое было вдохновение. А насчет храма на сцене — это высмеял еще Чехов, но живуч оказался бутафорский храм.
Чтобы избежать продолжения умилительных воспоминаний, Филипп готов был рискнуть — послушать самодельные стихи.
Всякие бывают молодые. Почему обязательно видеть хамство? Вон у папы на работе, в его троллейбусном парке, — стихи пишет, да?
Николая Акимыча не надо уговаривать — он включился мгновенно:
— Забавный парень. Водитель, как я. Только сам говорит, что, мол, временно, что вы еще гордиться будете, с кем работали.
— Ну и как, будете гордиться, Николай Акимыч? — серьезно спросила Лида.
— Кто его знает, Я в новых стихах не очень понимаю. Вот когда «На берегу пустынных волн», тут все ясно. Или про любовь: «Я помню чудное мгновенье». Я так понимаю, что выше Пушкина не прыгнешь, сколько ни старайся.
— А зачем же стараются, пишут? — так же серьезно допрашивала Лида.
— Не знаю. Время другое. Пушкин же не мог написать про эту войну, скажем.
— Значит, пробел восполняют? А про любовь и не стоит после «Чудного мгновенья»?
— Не знаю. Там ведь чувство самое такое полное, с большой буквы. А этот вот — тоже вроде и про любовь, а может, и не про любовь — смутно как-то. Ну правда, он, может, и не настоящий поэт. — Николай Акимыч достал листок. — Вот, если хотите. Сам себя переписывает и всем раздает. Говорит, разбогатеете потом на моих автографах. Читать, значит?
— Про любовь? Ну конечно — закричала Лида.
— Говорю ж, что и не очень про любовь. Наполовину как-то.
Николай Акимыч до сих пор с легкостью проходит медкомиссию — грозу всех пожилых водителей. Вот и читать взялся без очков, только листок отставил далеко.
Взвалить на себя весь мир,
И всю безнадежность мира,
И идти единственным атлантом
С душей, закованной в латы.
Взвалить на себя свою голову.
И все мысли, рвущие голову,
И идти измученным атлантом,
И лизать израненные лапы.
Читал Николай Акимыч плохо. Он, видно, не мог решить, всерьез читать или в насмешку, и потому интонация колебалась. А Филипп, настроившийся посмеяться, потому что не зерит он во всякую самодеятельность, неожиданно поддался обаянию странных стихов.
И нет на свете женщины,
Бесконечно ласковой женщины,
Все прощающей, Все понимающей,
Голову в колени принимающей.
Так идешь одиноким атлантом,
На любовь ставишь заплаты,
А любовь все равно рвется,
Об острые мысли рвется,
А мысли кромсают голову,
И нет ей теплых коленей.
Николай Акимыч замолчал, оглядывая присутствующих в некотором недоумении: смеются или нет? Рассмеялся Степа Гололобов:
— «На любовь поставить заплаты»! А что — тоже образ!
— Ах, перестань, пожалуйста! — рассердилась Лида. — Очень даже искренне, а что еще нужно? Он что — некрасивый совсем, ваш поэт?
— Нет, парень — что надо.
— Тогда странно, конечно, что «нет на свете женщины». Или — не угодить на поэта? Все-таки храните автограф, Николай Акимыч, храните, может, и правда, гордиться будете. А как его фамилия, если вдруг встретится где-нибудь в настоящем журнале?
— Макар Хромаев.
— Не повезло ему, бедному, с именем! — Степа Гололобов по-прежнему смеялся, но как-то раздраженно, как будто неизвестный поэт чем-то обидел его. — Всегда будут поминать телят, которых он гонял или не гонял. И фамилия. Всякий не удержится, будет шутить, что у Хромаева хромает рифма.
Читать дальше
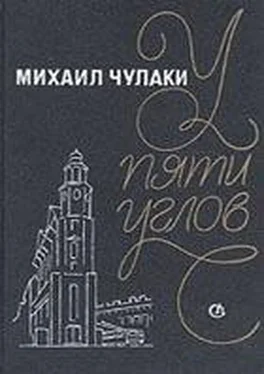
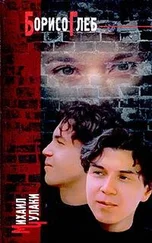

![Михаил Чулаки - Книга радости — книга печали [Сборник]](/books/29437/mihail-chulaki-kniga-radosti-kniga-pechali-sborni-thumb.webp)