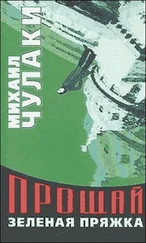— Вот так вот, юноша, — сказал Филипп после последнего аккорда. — Петь это будут хором, а не так, как я сейчас блеял.
— Будут? Петь? — Макар простодушно сиял.
— Да, будут, я надеюсь, в каком-нибудь концерте. Издадут афиши, программки, там обозначат: «Слова М. Хромаева»,
Правильно, вот как его фамилия: Хромаев!
— Ну, Макар, — сварливо сказал Николай Акимыч, — чувствую, недолго ты у нас задержишься. Если уж на афишах… Утащат тебя во всякие круги и сферы. А зря. Поэту лучше не отрываться. От народа.
— Уж вы-то народ, Николай Акимыч, — не утерпела Ксана. — Вы — живая энциклопедия, почище всякого интеллигента, а тоже в народ!
— Может, и знаю кое-что, а вот от народа не отрываюсь, — заносчиво сказал свекрушка.
Макар молча улыбался. Похоже, он как бы уже перенесся в будущее — где успех, где он признан! Что ему смешные опасения и предостережения. Прозой он не говорил, не снисходил до прозы — или молча улыбался, или читал:
С душой сейчас нехорошо:
Душа отменена.
Взамен души рефлекс пришел —
Науки времена…
И хорошо, и правильно, что он ни о чем не спорит, ничего не объясняет. Он говорит на другом языке:
Нами понято слишком много,
Чтобы что-то понять,
И нет добродушного бога,
Чтоб с непонятым примирять.
Кто про истину знает точно?
Кто сказал, что рождаться — просто?
День кончается многоточием,
Продолжается век вопросов…
Откуда это в нем? Ведь почти мальчик!
И тут некстати зажегся свет. Предметы потеряли таинственность, сделались прозаичными и как бы скучно обнаженными. Как обнаженные тела в бане — никакой в них привлекательности, и если бы мужчины подсмотрели — были бы разочарованы. Именно потому нельзя давать им подглядывать, а не ради стыдливости.
Давайте пить чай, — как-то буднично сказал Филипп.
И Ксане не захотелось возражать. Да, нужно пить чай и не читать больше стихов: кто знает, какими они покажутся при обнажающем будничном свете электричества.
Мог бы еще посидеть, но, выпив чаю, Макар поспешно засобирался — видно, боялся быть навязчивым, нахальным. А уж прощался так благодарно, так старательно, что даже попытался шаркнуть ногой. Трогательно. И говорят, что молодежь нахальная и невоспитанная. Хотя разная бывает молодежь: вон девочки в училище — преподаватели плачут. Но, может быть, девочки вообще стали грубее?
Ксана буквально заклинала Макара:
— Заходите еще! Запросто! Поесть домашнего! А он все улыбался и благодарил.
И когда дверь за Макаром закрылась, Ксана сказала восторженно:
Да, вот какой талантливый! И весь настоящий!
— Ну, еще не совсем настоящий, — сварливо ответил Филипп. — Многое взял от Маяковского. Ну кое-что есть в нем, конечно.
«Кое-что»! Наверное, Филипп просто завидует: что такой молодой, что такой талантливый! Года через два этот Макар Хромаев будет такой знаменитостью, что и не достанешь! Вот Филипп и брюзжит — сам-то он уже вряд ли когда-нибудь прославится по-настоящему.
Когда среди ночи Николай Акимыч внезапно столкнулся в коридоре с внуком, он поверил, что Федька забежал, от кого-то спасаясь. От хулиганов. Но потом… Какое-то все-таки взяло сомнение. И уже на другой день, проходя по коридору, не удержался, осмотрел бумажку, которой заклеена комната Леонида Полуэктовича. Новую бумажку, оставленную после описи. Бумажка выглядела неважно: самый конец отлепился и загибался; дальше лента хоть и держалась, но видно, что надорвана — надорвана и приклеена. Или кто-то другой успел постараться? Антонина Ивановна?
Жутко неприятно: подозревать родного внука! Но вышел-то Федька с пустыми руками, это точно — Николай Акимыч пока еще не ослеп. А за пазухой? Мог, например, сунуть книгу. Сейчас очень ценятся старые книги, за некоторые, говорят, дают и сто рублей, и двести. А у Леонида Полуэктовича настоящая лавка букиниста. Неужели же Федька сообразил? Книги в опись не попали, и никто не узнает, если он и взял, — это-то и страшно! Страшно, если украл, заработал на краденом — и остался безнаказанным! Украл, получилось — может попробовать снова! А если все-таки сказал Федька правду? Хороший же парень, руки золотые… Не мог Николай Акимыч отделаться от подозрений, но и признаться в них никому не мог. А тем более — Федьке! Ведь если не брал, если внук чист и честен, за что же так смертельно оскорблять?! Да после такого — все, конец! Федька при жизни слова не скажет и на похороны не придет! А если все-таки брал? Тогда смолчать и поощрить тем самым — еще хуже. Куда ни кинь… Так Николай Акимыч и носил в себе — как камень. Не против Федьки камень, а самому с ним тяжело; не за пазухой камень, а на шее. Будто нечистая совесть. Во как: подозрения на Федьку, а чувство, будто у самого нечистая совесть.
Читать дальше
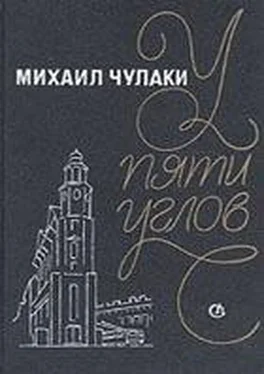
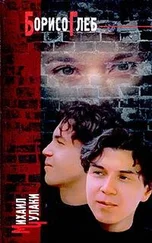

![Михаил Чулаки - Книга радости — книга печали [Сборник]](/books/29437/mihail-chulaki-kniga-radosti-kniga-pechali-sborni-thumb.webp)