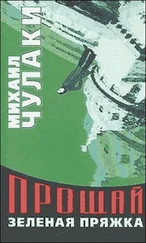Ксану усадили в первый ряд директорской ложи, а ей хотелось вжаться в самый дальний угол, — что-то жалкое в торжественном сидении в первом ряду, когда зал не заполнен, когда в ложе только знакомые. Конечно, для Филиппа торжество: исполнение новой симфонии в филармонии. Торжество, да не торжественное. Уж Ксана-то знает, что такое атмосфера успеха, что такое танцевать в переполненном зале! Не ради нее переполнялся зал, она выходила то в кордебалете, то в тройке или четверке, — но все равно совсем другое самочувствие. А какой успех бывал у Ольги Леонардовны! Кто видел тот успех, того не удивить никакими овациями и сверховациями… Да, не шли ради Ксаны, но понимающие люди замечали и ее, замечали и отмечали. Какие люди! Профессор Красавин, у него книга про балет, сказал: «Вы прелесть, Ксаночка, вы тот самый пух от уст Эола!» — когда профессор Красавин говорил ей «прелесть», совсем иначе звучало, чем сегодня от Брабендерши. Есть здесь сегодня такие люди? Где музыковеды? Сидит Богданович, наверное, заказали ему статью, но он же не из ведущих, к тому же знакомый…
Оркестранты вон вышли — и будто им тоже чуть неловко. Всерьез они играют Бетховена или Чайковского, ну конечно, Шостаковича из современных. А сейчас сыграют Варламова, снизойдут. Как это на музыкальном языке? Филипп рассказывал… А, вот: «отлабают»! Вторую симфонию Варламова. А кто знает Первую? Кто слышал, кто помнит? Как ее помнить, если ее исполнили единственный раз. Такое исполнение называется двойное: первое и последнее. А сколько раз исполнят эту Вторую?
Кусками, игранную на рояле Ксана уже слышала эту симфонию неисчислимое количество раз. И многие места ей нравятся. Должны и слушателям сейчас понравиться! Но когда такая атмосфера домашности в зале, не может не возникнуть чувство неловкости. Семейное торжество, выставленное напоказ. Есть какая-то чуткость в человеке, если не совсем деревянный.
Это чувство неловкости не давало Ксане полностью раскрыться перед музыкой. Потому что слушала она как бы не сама, а пыталась вжиться в слушателей — тех, кто пришел случайно, пришел и увидел, что перед входом продают билеты; тех, кто пришел послушать известного Смольникова, архаиста и авангардиста одновременно, и поневоле высиживает и первое отделение; тех, увы немногих, кто знает Варламова и захотел услышать, что он сочинил нового… Да, так что они все слышат сейчас? Вот приятный мелодичный кусок — но не слишком ли бесхитростно написано, не слишком ли старомодно? А здесь пошли диссонансы — похоже, вставлено как дань современности.
От волнения или оттого, что жарко в зале, Ксана взмокла. И сразу почувствовала слабое, но упорное дуновение в спину. Значит, опять простудится, опять обострятся бронхи. Только-только начала выкарабкиваться. Ну, это неизбежно. Она никогда и не жалуется — просто иногда говорит…
Медленная часть — пожалуй, самая лучшая. На время Ксана даже забыла о своей раздвоенности, не старалась вообразить, как воспринимают симфонию случайные посетители, — подчинилась потоку мелодий, словно бы плыла в нем. Вспоминалось удовлетворенное изнеможение после спектакля; или заход солнца в Адлере, когда набегавшийся Раскат ложился на гальку, Ксана садилась рядом, успокоенная преданностью пса, его простодушием и силой, — и оба смотрели туда, на горизонт, где всеми оттенками оранжевого и малинового окрашивались тучи… Чего там — хорошая музыка.
Зато финал Ксана и раньше не любила, когда слышала в отрывках, и сейчас снова не понравился: слишком бодрый, натужно бодрый, точно Филипп извинялся за позволенную себе задумчивость и грусть, извинялся и спешил исправиться. И опять почудилось, что случайные слушатели в зале все понимают и улыбаются: надо наддать бодрости в финале — вот композитор и постарался.
Дирижер широкими взмахами как бы призывал оркестр выложиться до конца, звучности нарастали, медные духовые, перекрывая все, трубили кому-то славу (хорошо, что симфонии бессловесны: кому трубят — понимай как хочешь!..), аккорды как бы несколько раз взбегали в гору, но останавливались перед вершиной, отступали, звукоряд оставался незавершенным; но каждый приступ все ближе к цели, все ближе, и наконец — ах! — в последнем взмахе дирижер чуть не взлетел и закончил тем окончательным жестом, каким когда-то в споре били шапкой оземь. Все! Вершина взята…
Конечно, аплодисменты. После такого нагнетания темпов и звучностей не может не быть аплодисментов. Да и из вежливости: поработал композитор, так все складно сочинил — как не поаплодировать? Да, из вежливости, а не от переполненности чувствами. Дирижер — тот самый молодой Аркадий Донской, для которого приглашение в филармонию тоже событие, — деловито поклонился публике сам и тут же начал аплодировать, оборотясь всем торсом к директорской ложе, аплодировать, нарочито высоко поднимая руки. Ах, не надо бы Филиппу выходить, неужели он не понимает, что не те это аплодисменты? Не надо бы — но и не выйти невозможно, когда вот так вызывают, когда все знают, что автор здесь. Весь зал, повернувшись вслед за дирижером, смотрел в сторону ложи.
Читать дальше
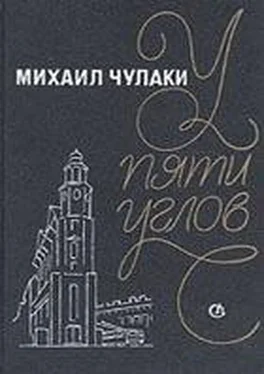
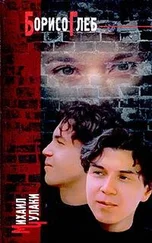

![Михаил Чулаки - Книга радости — книга печали [Сборник]](/books/29437/mihail-chulaki-kniga-radosti-kniga-pechali-sborni-thumb.webp)