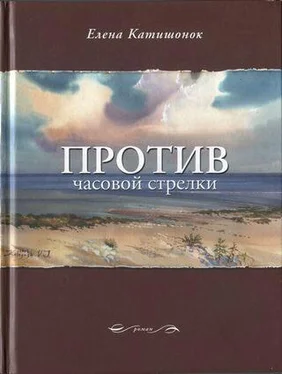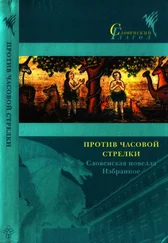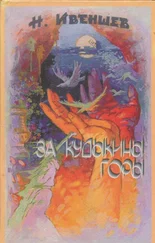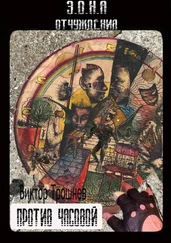В эти же несколько дней по почте пришло письмо на ее имя, письмо совершенно официального вида, но написанное очень обходительно. В нем содержалось приглашение прийти в горком партии для беседы с секретарем, адрес горкома и время, а внизу — бурно вскипающая подпись.
Мамынька с Тоней разве что на зуб не пробовали непонятное письмо. Федя вызвался проводить, и если бы не он, ждать бы секретарю вызываемую гражданку до второго пришествия из-за переименованных улиц. По пути Ира видела таблички с новыми названиями, замечала, как изменился город, и поволноваться о предстоящей беседе не удалось.
Здание райкома располагалось неподалеку от музея, да и внутри походило на музей мрамором вестибюля, высокими окнами и двустворчатыми дверьми, которые то тут, то там распахивались беззвучно, как во сне. Ей не пришлось бродить, озираясь в поисках нужной комнаты, — дежурный пробежал глазами письмо и проводил на второй этаж.
В кабинете было накурено и пахло точно так же, как в домоуправлении, хоть и райком партии. Один мужчина сидел за письменным столом, другой стоял у окна. Пожав Ирине руку, представились в том же порядке: «первый» и «второй». Она удивилась, что секретари у партии под номерами, как трамваи, — а сколько их всего? — но Первый назвал Колино имя, а Второй едва успел придвинуть ей стул прямо под ослабевшие колени. Нет, Ира не заплакала. Просто слушала строгие государственные слова, которые по очереди произносили Первый и Второй, и слова эти бесконечно трогали, потому что говорились о Коле. Оба секретаря говорили по-русски медленно и старательно, с протяжным местным акцентом, отчего слова приобретали дополнительное ударение, и это тоже звучало трогательно.
Товарищи по партии…
Долг коммуниста…
Погиб на посту…
В наших сердцах…
Геройской смертью…
Поистине, тьма низких истин всегда проигрывает по сравнению с обманом, ибо не возвышает нас, а как это необходимо! Ирина знала, как не могли не знать говорящие, что Коля погиб не «на посту» — никому не нужный пост он оставил, — а в концлагере; что от работы в ячейке он отдалился задолго до войны: нельзя же убеждения и мечты считать работой! — но жадно слушала не столько чужие казенные слова, сколько родной теплый голос, вдруг пробившийся к ней в этих стенах:
Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает…
«Он погиб смертью героя, и мы все…» — вклинился чужой голос в пушкинские строки.
Правильно!.. «Герой», вот как стих называется.
Не был ее Коленька героем.
Скромный наборщик, больше всего любящий свою семью и книги, не вел он в атаку взвод, не закрывал своим телом палящее орудие, что не спасло его от смерти мученика; но можно ли мученика приравнять к герою? Герой встречает смерть в лицо и успевает произнести обличительные слова — или рядом всегда найдутся около-герои , готовые засвидетельствовать, что именно такие слова были сказаны. Мученик ждет смерти, а она может быть унизительной хотя бы одним тем, что заставляет ждать себя, неизбежную и страшную, и самим ожиданием, и знанием — или, наоборот, неведением, что еще страшнее: какой она будет, эта единственная его смерть. Смерть, о которой так легко было шутить с цыганкой в серебряных перстнях, когда вся жизнь была как тот весенний парк, заполненный нарядными людьми и кустами сирени, еще не распустившейся, но набухшей гроздьями бутонов, где таились залежи счастья из пяти лепестков. Смерть была так же условна, как это сиреневое счастье.
А настоящую смерть Коля встретил один…
Ира слушала и ждала, что еще скажут о Коле, но такие же слова рокотали по радио и печатались в газетах: две свежих, со знакомым запахом типографской краски, лежали на столе, а рядом — папиросная коробка с бело-голубыми горами, и на фоне гор дыбился черный силуэт всадника. Конь пятился, а всадник нетерпеливо наклонился вперед. По черной полоске внизу тянулись угловатые буквы «КАЗБЕК». Странно: почему Казбек, а не Казбич, — ведь в книге был Казбич? Чтобы не видеть тревожной картинки (что там впереди, пропасть?), Ира перевела взгляд. На краю стола была прибита аккуратная жестяная табличка с номером, точь-в-точь почтовая марка на конверте; у стены стоял книжный шкаф с длинным рядом одинаковых томов. В простенке между высокими окнами висели портреты Ленина и Сталина, а ближе к шкафу, соблюдая корректную дистанцию, и местный вождь, но с такими же, как у Сталина, усами. Два главных портрета висели лицом друг к другу, причем Ильич по сравнению с преемником казался настоящим франтом, со своим неизменным галстуком в горошек, традиционным костюмом и совсем уже буржуазной жилеткой — обед из трех блюд. Сталин, которого и представить было немыслимо без наглухо застегнутого френча, выглядел аскетом и смотрел не в глаза Ленину, а куда-то поверх головы, где только он один видел светлое будущее и все остальное, что скрыто от глаз простых смертных, но попутно скользил благосклонным взглядом по лысине предшественника и собранию своих сочинений, а Казбич-Казбек с рафинадными горами его не интересовал. И то: мало он гор на Кавказе видел, что ли? Масляная краска на портретах и корешки книг чуть лоснились.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу