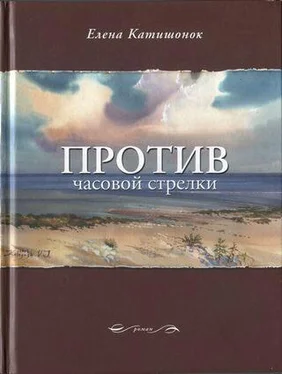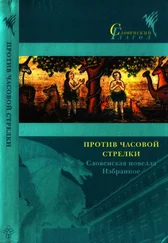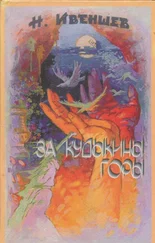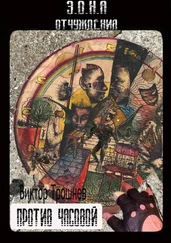— Кончилась зима. Раз прошло Сретение, морозов больше не будет. — Бабушка незаметно проглотила таблетку. — А в какую больницу свезли?
— В Республиканскую.
Вот оно что. Значит, Лелька ей голову морочит: ни с каким гастритом туда не положат. Да и Тоню она знала как никто, потому и была уверена, что не стала бы сестра задерживаться на казенной кровати ни одного лишнего дня. Жизнь коротка, а дел много.
Гастрит!..
Папаше, Царствие ему Небесное, тоже говорили: гастрит, потом — язва, а оказалось… И сама себя одернула: не каркай.
Нас только двое, явственно прозвучал Тонькин голос.
Как же: а Симочка? — и сейчас же отодвинула на потом и мысль о брате, и упрек самой себе, зато о сестре молилась долго и сосредоточенно. Иконы остались дома, и вначале было непривычно, но только вначале.
Образ не на стенке — в душе.
Жила ведь без моленной, икон и святых праздников всю войну, жила и творила молитву, повернувшись к окну, за которым всходило солнце.
Бог живет не в храме.
Несколько раз звонила сестре, но неудачно. Когда наконец дозвонилась, трубку взяла Тонина невестка и была приветлива как никогда: «Жорик повез маму в больницу на процедуру, вернутся часа через два».
Маму?!
Положим, Юраша повез не кого иного, как мать; однако что же это за процедура такая, если Зойка назвала свекровь мамой?
Тонечка, Тонечка, сестричка моя, твердила по дороге непривычные слова, но — странное дело! — только эти слова успокаивали. Медленно-медленно поднялась на второй этаж, прислоняясь иногда к перилам, чтобы отдышаться.
Нажала звонок.
Появилась вовремя. Бледная Тоня с кряхтеньем укладывалась на кушетку: «Поправь плед сбоку, а то дует».
При ярком солнце стало заметно, что сестра изменила прическу. Всегда негустые, но заботливо уложенные волосы отросли и стали пышнее, отчего лицо казалось меньше, зато сильнее выдавался вперед нос. Сходство с покойным отцом бросалось в глаза сильнее обычного, но теперь это сходство пугало. Догадка возникла сама по себе и тут же перестала быть догадкой, превратившись в уверенность, от которой во рту стало сухо, точно бумаги наелась.
Волосы ни при чем. Тонька сохнет, вот что. Потому и холодно ей.
— Что в больнице сказали? — спросила осторожно, но сестра поняла, потому что возмущенно заговорила «об этих врачах, ничего толком не умеют, разве что воду откачать; конечно, был бы Федя жив, и отношение было бы другое, ну, да ты сама знаешь».
И не выдержала, похвасталась: Таточка с мальчишками приезжала, Юраша — чуть ли не каждый день; что только не привозили! — да она там все ребятам и скармливала, диета есть диета. Навестили из месткома; шутка ли, шестнадцать лет отработала. Рассказала, что Милочка и Лелька не забывали, а «твоя курица, крестница моя любимая», — и голос задрожал. Тоня плотно сжала губы и молча разглаживала складки пледа.
— Хоть бы раз, подумай! — Опять сжала губы, потом продолжала: — А чуть что: «Танта, помогите!» да «Танта, до шестнадцатого числа, потом рассчитаюсь»… Вот и рассчиталась, — и безнадежно махнула исхудавшей рукой.
Помолчали. Ни нарядный тюль занавесок, ни малокровная пальма не могли сдержать яркое солнце.
— Понять не могу, — удивилась Ира, отряхивая с пальцев влажную землю, — отчего она у тебя так плохо растет? И кошки давно нет…
Кошки, балованной и капризной Мурки, действительно давно не было в живых. Когда еще была, считалось — и не без основания — что именно ее регулярными стараниями никакая флора в доме не выживает. Исключение составлял один только столетник, чьи толстые зеленые рога, щедро усеянные колючками, заставляли бесстыжую Мурку держаться подальше.
Позвонили в дверь. Звук этот всегда напоминал Ирине театральный звонок: низкий, приглушенный, словно обернутый в мягкую замшу. Было слышно, как невестка в прихожей громко кому-то говорит, что «маму привезли из больницы», «у мамы гости», а остальное приглушил хлопок кухонной двери. У Ирины снова пересох рот, и она повернулась к сестре:
— Пасха в этом году поздняя. Вербное воскресенье только двадцать седьмого!
Та оживилась: «Как раз к твоим именинам!», и начали вспоминать, когда еще так поздно праздновали. Безо всякого перехода Тоня вдруг спросила:
— А ты помнишь, сестра, как Мурка?.. — не смогла произнести ни «издохла», ни «умерла», но Ира поняла и кивнула.
…В то январское утро, когда Федя упал лицом вперед, как падают, чтобы никогда больше не встать — и не встал, — в то утро Мурка беспокойно кружила по спальне и, вопреки обыкновению, протяжно мяукала, да кто обращал на нее внимание! Она вспрыгнула на подоконник, словно через махровый иней можно было увидеть «скорую», увозящую хозяина, а если и можно было?.. Известно, что к еде — Феденька по утрам всегда ставил ей блюдце со сметаной — не притронулась и воду не пила. Как вскочила на кровать, так и стояла над его подушкой, недоуменно и жалобно… не мяукая, нет: постанывая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу