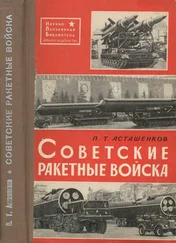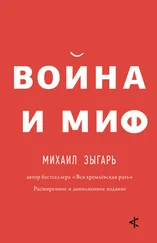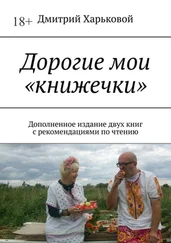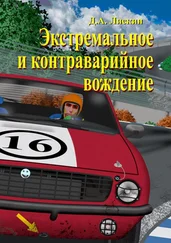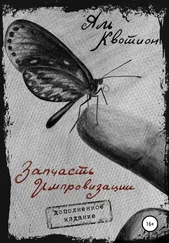В НКВД у Гурки спрашивали две вещи: кто написал письмо и как его отправили в Нью-Йорк. Но Гурка был к обоим вопросам готов и отвечал, что сам написал, а письмо опустил в почтовый вагон поезда «Караганда — Москва». Ему не поверили, но он стоял на своём, как партизан. А когда отпустили, то в это тоже никто не поверил — уже дома. Соседи, все отбывавшие по пятьдесят восьмой и пять или десять по рогам, квалифицированно разъяснили, что собрать в узелок, он потом с месяц висел у печки в Гуркиной избе. На работе Гурия восстановили — в это тоже никто не верил. Ходил даже слух, что начальника, кому врезал по замордку, уволили, но профессор Резенкампф, у которого как теплотехника были большие связи в депо, утверждал, что это неправда.
— Зайдёшь в избу, Антон? — сказал Гурий. — Выпьем.
— С утра?
— А что? С утра выпил — весь день свободен.
— Спасибо, Гурий, в другой раз. Тороплюсь к Атисту Крышевичу.
— А, к дипломату, Артисту Крысовичу! Сходи, сходи. Отчётливый мужик. Кофеем напоит. В Европах бывал, кофе делает хороший, крепкий, как рельс.
17. Гимн Советского Союза
Атист Крышевич не был учителем — он был атташе культурель посольства Латвии в Англии. Когда республику добровольно присоединили, посольство разделилось: большая часть осталась в Лондоне, меньшая поехала строить социалистическую Латвию. Через Ригу они проследовали транзитом — кто в Потьму, кто на Колыму.
Атист Крышевич попал под Караганду, в Карлаг, а через десять лет, получив ещё пять по рогам, — сначала в Степняк, а потом в Чебачинск. С молодости он был на дипломатической работе, больше ничего не умел. Правда, вскоре выяснилось, что нужны его языки. Он их и преподавал в местных школах — где какой требовался: английский, немецкий. Преподавать, впрочем, он тоже не умел: никак не мог взять в толк, как человек, учивший язык с пятого класса, к десятому не может составить самой простой немецкой фразы; его это приводило в страшное недоуменье — с чего начинать, чему учить; к тому ж он не знал, как учить, в чём простодушно и признавался, говоря, что не имеет представления ни о каких методиках.
— А и никто не имеет, — не менее простодушно говорила ему Сорок Разбойников. — Вы поступайте как я: как меня учили, так и я учу. Вас как учили языкам?
— Мы разговаривали с гувернанткой. Или с родителями за обедом. По дням: сегодня по-английски, завтра по-немецки…
Он переводил на латышский Гейне, был знаком с Балтрушайтисом. У Антона он не преподавал. Но однажды в школьном коридоре он услышал, как Антон говорил Мяту:
— Совсем в духе Апсишу Екабса, или, если вспомнить его настоящее имя, Яниса Яунземиса.
— Вы знаете эти имена? — как вкопанный, остановился Атист Крышевич.
Антон смутился. Не мог же он сказать, что и псевдоним, и имя латышского писателя запомнил единственно из-за их исключительной звучности, как проливы Каттегат и Скагеррак. Уже в десятом классе Антон принёс Атисту Крышевичу свой перевод из Гёте со словами, вспоминая которые, до сих пор покрывался краской стыда:
— Может, вы помните, ещё Лермонтов переводил это стихотворение: «Горные вершины».
— Помню, — улыбался в роскошную седую бороду Атист Крышевич, — переводил…
— Понимаете, — горячился Антон, — у Лермонтова — сразу метафора: «спят». У Гёте ничего этого нет. «Über allen Gipfeln ist Ruh» — и я так и перевожу: «На вершинах горных — тишина».
Я очень гордился точностью своего перевода — соблюденьем вольного метра подлинника, отсутствием перифраз. У Лермонтова был правильный хорей, были и перифразы. Но почему-то и «спят во тьме ночной», и «полны свежей мглой» — всё это мне безумно нравилось, завораживало и заставляло повторять. Свой перевод повторять не хотелось. Может, поэтому я горячился всё больше.
— Надо просто, безо всего, понимаете?
— Понимаю, — ещё ласковей улыбался Атист Крышевич. — Это стихотворение Гёте — великое искушение. Я тоже… Ты не понимаешь по-латышски… Но я всё же прочту. Тринадцать лет я не читал никому своих переводов.
Он закрыл глаза и начал читать. «Печаль на его лице сменилась тихим вдохновеньем», — определил Антон.
На прощанье он подарил Антону рукописный листок с русским переводом самого знаменитого стихотворения Гейне; писано было ещё по старой орфографии: «Фраки, белые жилеты, Тальи, стянутые мило, Комплименты, поцелуи, Если б в вас да сердце было». На листке не было имени переводчика, но этот перевод Антону потом никогда не попадался, ни Копелев, ни Ратгауз, ни Гаев тоже его не знали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Чудаков Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] обложка книги](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-cover.webp)