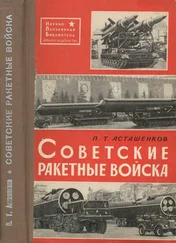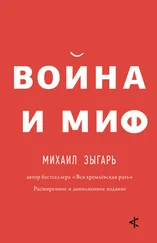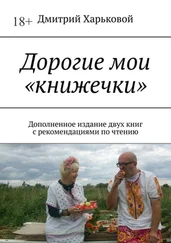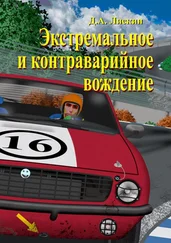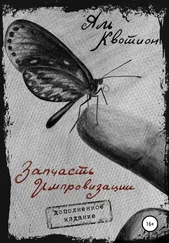Через два дня Клавдия Петровна, раздавая сочинения, спросила:
— Антон, а какие превратности судьбы ты имел в виду?
Я молчал, потому что «судьба» в моём сознании тесно связывалась со словом «суд» — в этом соседстве они всегда оказывались в речах и деда, и бабки. Объяснить это было сложно. Но я всё-таки выдавил:
— Это когда меня будут судить.
— Судить? — поразилась Клавдия Петровна. — Тебя?..
— Ну, когда я вырасту.
Клавдия Петровна больше не расспрашивала.
Когда в этот приезд Антон её навестил, ей, как и деду, было за девяносто, она уже не помнила ничего и Антона. Но когда он произнёс: «превратности судьбы», в её водянистых глазах что-то мелькнуло и остановилось:
— Да, это ты… и Вася. Как же! — учительница оживилась. — Он ещё писал «пестмо», а «во втором» — с четырьмя ошибками: «ва фтаромм». Надо ж было изобрести! — она восхищённо всплеснула слабыми руками. — Это мог только он!
Но прославился Василий не своей орфографией, с которою был знаком лишь узкий круг. Славу ему принесло художественное чтение стихов — его главная страсть.
На уроках он о чём-то думал, шевеля губами, и включался только когда Клавдия Петровна задавала на дом читать стихотворение.
— Назуст? — встрепёнывался Васька.
— Ты, Вася, можешь выучить и наизусть.
Он выступал на школьных олимпиадах и смотрах. На репетициях его поправляли, он соглашался. Но на сцене всё равно давал собственное творческое решение. Никто так гениально-бессмысленно не мог расчленить стихотворную строку. Стихи Некрасова
Умру я скоро.
Жалкое наследство,
О родина, оставлю я тебе
Вася читал так:
— Умру я скоро — жалкое наследство! — и, сделав жалистную морду, широко разводил руками и поникал головою.
Отрывок из «Евгения Онегина» «Уж небо осенью дышало», который во втором классе учили наизусть, в Васиной интерпретации звучал не менее замечательно:
Уж реже солнышко блистало,
Короче: становился день.
После слова «короче» Вася деловито хмурил свои густые тёмные брови и делал рубящий жест ладонью, как завроно Крючков.
Энергичное обобщение в стиховой речи Вася особенно ценил. Строку из «Кавказа» «Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады» он сперва читал без паузы после первого слова (его он, естественно, принимал за «вообще»). Но Клавдия Петровна сказала, что у Пушкина после него стоит восклицательный знак, а читается оно как «вотще», то есть «напрасно». Вася, подозрительно её выслушав (учителям он не доверял), замечанье про «вотще» игнорировал, про паузу принял и на олимпиаде, добавив ещё одну домашнюю заготовку, прочёл так: «Вааще — нет ни пищи ему, ни отравы!»
В «Родной речи» были стихи:
Я — русский человек, и русская природа
Любезна мне, и я её пою.
Я — русский человек, сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на Родину свою.
Имя автора изгладилось из моей памяти. «Любезна» и «пою» тяготеют к державинскому времени, но «сын своего народа» — ближе к фразеологии советской.
Вася, встав в позу, декламировал с пафосом:
Я русский человек — и русская порода!
И гулко бил себя в грудь. По эффекту это было сопоставимо только с выступленьем на районной олимпиаде Гали Ивановой, которая, читая «Бородино», при стихе «Земля тряслась, как наши груди» приподняла и потрясла на ладонях свои груди — мощные, рубенсовские, несмотря на юный возраст их обладательницы.
Шедевром Васи было стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб поэт — невольник! Честипал! Оклеветанный! — Вася, как Эрнст Тельман, выбрасывал вперёд кулак. — Молвой с свинцом!»
Дальнейшую интерпретацию текста за громовым хохотом и овацией разобрать было невозможно. Васька был гений звучащего стиха.
Его пробовали исключать из списка участников очередной олимпиады. Но на совещании директоров школ-участниц завроно Крючков неизменно спрашивал директора нашей школы: «А этот, поэт-невольник, будет что-нибудь декламировать?» И Гагина срочно вписывали обратно.
Начиная с четвёртого в каждом классе он сидел — всё из-за того же русского языка — по три года. Дядька после получения очередного известия о второгодничестве вздувал Ваську костылём, после чего воспитательный вопрос считал исчерпанным.
К шестому классу это был здоровенный 16-летний парень с мощной мускулатурой и широкими плечами. Начиная с мая месяца он ночевал не в избе, а на сеновале. Вскоре туда же переселялась Зинка, его кузина, в свои пятнадцать выглядевшая на девятнадцать. Всё лето Васька жил с ней как с женой (они даже ругались по утрам и Зинка, девка здоровая, один раз спихнула Ваську с повети). Тётку это почему-то не волновало; каждый вечер, после ужина, она командовала: «Дети, марш на сеновал!» (Зимой эти дети жили с нею и её мужем в одной комнате.) Васька свою связь передо мной не скрывал, но особенно про неё и не распространялся — может, потому, что я смертельно ему завидовал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Чудаков Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] обложка книги](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-cover.webp)