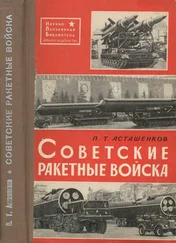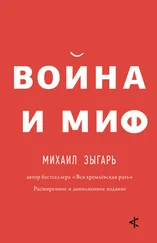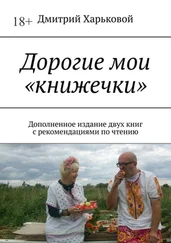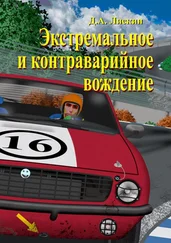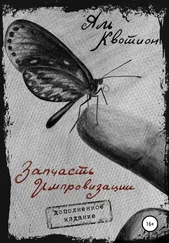Первым, к кому поехал Антон, был некто Ратинов, в своё время два месяца проживший у Стремоуховых на Пироговке, где он отсиживался от НКВД. Впрочем, даром времени он не терял и к концу второго месяца женился на соседке по коридору. Взяв её фамилию (своя была — Драпов, и Антон, недавно узнавший, что ратин — тоже ткань, думал, что отец шутит), вышел из подполья, с новой фамилией явился на швейную фабрику «Большевичка» и сказал, что хочет в пошивочный цех, где как раз начали шить входящие в моду у аппарата ратиновые пальто. Это тоже походило на среднего качества юмор, однако Ратинова-Драпова тут же зачислили, и он сделал большую карьеру: в войну был замом главного интенданта 2-го Украинского фронта, одевал маршала Конева, а ныне занимал какой-то большой пост в Министерстве лёгкой промышленности. Жил он в высотном доме на Котельнической набережной. Прочитав письмо, Ратинов с некоторым недоуменьем посмотрел на визитёра.
— Тут Петруша пишет, чтобы я со своими связями в министерстве помог тебе купить зимнее пальто. Он хочет — что? чтоб я сходил в наш закрытый магазин с тобою? Но зачем? То, что там висит, тебе не по карману. Тебе сколько денег дали? Я так и предполагал. Вообще, или я что-то не понимаю, или твой отец. На дворе не тридцатые годы, про которые он в письме вспоминает… Пальто на тебя можно купить в любом универмаге. Где ГУМ, ЦУМ, ты, наверное, уже знаешь.
Второе письмо было адресовано некоему Юрию Сергеевичу Ивашкину, с которым отец, кажется, прогуливал материнское наследство. Он тоже уже был каким-то чином — в исполкоме г. Электросталь ведал пропиской. К нему Антон явился прямо в служебный кабинет. Тот, ожидал Антон, прочтя письмо, добро улыбнётся и скажет, как немец генерал в «Капитанской дочке»: «Так он ещё помнит стары наши проказ». Но Ивашкин ничего не сказал. Ещё раз пробежав длинное письмо (о чём мог ему писать отец на четырёх страницах?) и подняв глаза на Антона, который в это время внимательно разглядывал большой во весь рост портрет Сталина в мундире генералиссимуса, хозяин кабинета бросил: «Перенесли из кабинета главного» и вопросительно уставился на Антона.
— Так что вы с твоим отцом хотите? Пётр пишет: «Ты, ведая пропиской всего города…» Ну, он несколько преувеличивает, но в общем и целом, конечно… А что нужно-то? Ты живёшь — где? В вашей старой квартире на Малой Пироговке? В общежитии МГУ? Тебе нужна прописка в Электростали? Нет? — Ивашкин поднялся из-за огромного двухтумбового стола. — Ну, звони. Телефон возьми у секретарши.
Телефона Антон брать не стал, а из прочих рекомендательных писем решил отнести только одно — к графу Шереметьеву.
В начале тридцатых граф уцелел потому, что при смене документов паспортистка вставила мягкий знак в его фамилию, и он везде говорил: «“Полтаву” читали? Откройте том Пушкина: “И Шереметев благородный…” А я — Шереметьев, из жителей подмосковной деревни Шереметьево, где собираются строить аэродром». Однако он всё ж таки загремел, глупо, уже в тридцать девятом, когда, наоборот, кое-кого выпускали. Впрочем, получил скромно — пятилетнюю ссылку, которую отбывал в Чебачинске. После истечения срока ему каким-то образом удалось — редкий случай — не получить минус десять (городов), а вернуться в Москву.
Бормоча «И Шереметев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин», Антон отыскал старый дом в Богословском переулке.
Когда Шереметьев представлялся, перед фамилией он делал паузу и издавал некоторое небольшое как бы мычанье, будто пропуская какое-то слово. Многие догадывались и, как в «Подростке», спрашивали: «Граф?» — на что граф снова неопределённо мычал.
По телефону отвечал его дядька. Он тоже делал паузу: «У аппарата Фёдор», и после маленького молчания: «Нилыч». Дядьке перевалило за восемьдесят, это был крепкий, свежий старик с длинными пушистыми седыми висками, очень похожими на баки. Он был сыном другого дядьки Шереметьевых, родившегося ещё при крепостном праве и состоявшего при отце графа. Граф-сын называл своего дядьку Фёдор и на «ты». Будучи старше графа Григория Александровича лет на двадцать и находясь при нём с младенчества, Фёдор поехал за ним и в ссылку, хотя его как социально близкого никто ссылать не собирался. В Чебачинске граф бедствовал, существуя только огородом, который они обрабатывали вместе с Фёдором, да небольшими денежными переводами, посылаемыми ему из Омска другом отца, бывшим белым офицером, сумевшим это скрыть и в новой жизни хорошо устроившимся — завскладами при гортопе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Чудаков Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] обложка книги](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-cover.webp)