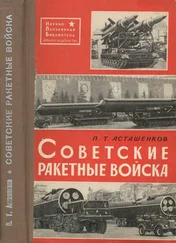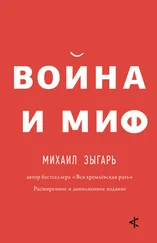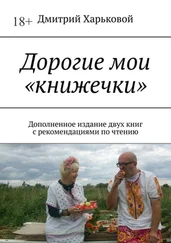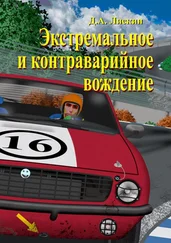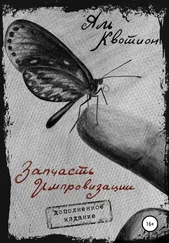— Что мне ваш райком сделает? Уволит? Ну и увольняй к… матери. Когда я тому мордовороту нюх начистил и два месяца не работал, — мы что, подохли? Ещё лучше жили: время — вагон, я такую партию корзин за… л, весь базар о… л. Клал я на энтот райком с прибором и присвистом.
Что-то в этом роде говорил и отец: Сталин удушил середняка и продолжает давить личное хозяйство потому, что хозяин в деревне и полугороде свободнее горожанина, зажатого и прикованного к кормушке, в которой дверку подымает и опускает власть.
Улица не только бегала, играла, хулиганила, она — читала. Здесь тоже была оппозиция школе — в её домене. Читали не так и не то, что проходили и что рекомендовали в ежегодно спускаемых откуда-то списках. Из рук в руки передавали распадающиеся книги, часто по старой орфографии, без начала и конца и почти всегда без титула. В основном это были исторические романы — как потом установил Антон, Мордовцева, Данилевского, Дмитриева, среди девочек ходила Чарская, которую мы презирали, позже, когда их начали переиздавать, появились Стивенсон и Дюма.
Главным читателем Улицы был Фомка Линник. Читал он целыми днями, по ночам при лунном свете, когда мать отбирала керосиновую лампу, по дороге в школу, прислоняясь к телеграфным столбам (один раз зачитался у столба перед школою, и мы весь урок видели его из окна). Но — странное дело — в голове его не задерживалось ничего, учился он неважно и особенно плохо почему-то по литературе и истории.
Дед не любил, когда Антон приносил уличные книги, и старался подсунуть Гоголя, упреждая: тебе с твоей чувствительностью не надо читать «Вия» на ночь; Антон читал как раз на ночь, но гоголевские ужасы его не трогали; ни разу не улыбнулся он и при чтении будто бы смешных «Вечеров на хуторе» и мненье это не переменил выросши, и сразу согласился с Набоковым, что Гоголь сам выдумал знаменитую историю о том, как типографские работники помирали со смеху, набирая эту книгу. «Мёртвые души» же, которые, полагал дед, читать ему рано, Антон страстно полюбил с первых строк про въезжающую в город N бричку Павла Ивановича Чичикова, который ему чрезвычайно нравился: был не слишком толст и не то чтобы слишком тонок, всегда умел найтиться и замечательно брился, подперши щёку извнутри языком, так что в рассуждении гладкости она становилась совершеннейший атлас. Про героев из других книжек можно было вспоминать какими угодно словами, но из этой — только теми, которые стояли там.
Вспоминая, Антон удивлялся, как мало влияла идеологически собственно школа. Влияние было скорее общегосударственное. Мы верили, что страна кишит шпионами. Читали, передавая друг другу, толстую красную книгу с рассказами, как пионеры помогают пограничникам. В журналах «Пионер» и «Дружные ребята» тоже печатались такие истории, в прозе и стихах. Герой одной из них, Вася Иванчиков, гуляя с другом возле колхозного поля, увидел, как среди моря золотых колосьев вдруг что-то «зачернело, словно лодка на волне». Лодка оказалась плечьми и кепкой незнакомого мужчины, который вежливо поздоровался с пионерами: «Здравствуй, русские ребята», — и пошёл своей дорогой. Вася послал друга на погранзаставу, а сам залез на высокую сосну — наблюдать. «Как узнать врага ты мог?» — спросил старший сержант после поимки диверсанта. Находчивый Вася секрета не скрыл: «Русский русскому не скажет: — Здравствуй, русский, здравствуй, брат».
Мы страстно мечтали обнаружить хотя бы одного шпиона. Петька считал, что на худой конец подошёл бы какой-нибудь диверсантский пёс: «Зашита в ошейнике пачка бумаг: собаку послал с донесением враг». Но ближайшая граница находилась в трёх тысячах километров, к тому же Антон полагал, что пёс из стихотворения — редкое исключенье в благородной собачьей генерации.
Другое дело — люди, например, физик Александр Петрович Баранов. Приехавший с КВЖД, а до этого живший в Харбине, весёлый, мелкокудрявый, носивший роскошную серую тройку японского шевиота (агентурное сведение из подслушанного Мятом разговора возле учительской), Барашек идеально подходил на роль японского шпиона. Рассказывал, что в Харбине бывал на концертах Вертинского и Лемешева. Вертинский — понятно, но Лемешев? Не могли разрешить народному артисту выступать перед белоэмигрантами. Было ясно: за Барашком надо следить. Мы залегали в бурьяне на краю соседнего огорода, но видели только, как Барашек ходил в клозет и сушившиеся на верёвке его кальсоны — шёлковые, как у штабс-капитана Рыбникова. Забавнее всего оказалось то, что, как узнали мы через много лет, Баранов действительно был завербован ещё на КВЖД, но разведкой не японской, а вовсе даже советской.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Чудаков Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] обложка книги](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-cover.webp)