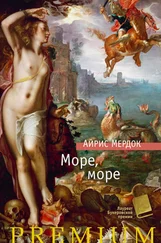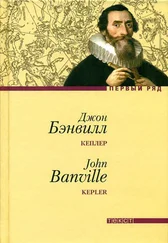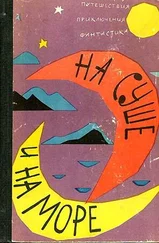Мать могла купаться только там, где никто не купался, подальше от глаз, от гостиничных толп и шумных случайных становищ залетных горожан. За тем местом, куда сбегала гольфовая дорожка, постоянный песчаный вал, отступя от берега, огораживал мелкую бухту, ее-то мать и облюбовала. С робкой радостью барахталась в мелкой воде, не плавала, плавать она не умела, а плюхалась на воду и переступала руками по дну, старательно держа рот над ленивым приплеском. Помню — кримпленовый купальник, мышино-розовый с узкой жеманной каймой, туго протянутой поперек, над самой промежностью. Лицо голое, беззащитное в тесной резиновой шапочке. Отец чудно плавал, ровными ударами наотмашь рубил воду, косясь, пыхтя и вытаращив один глаз. Вижу, как он наконец поднимается, задыхаясь, отплевываясь, — волосы облепили лоб, торчат уши, вздуваются плавки, — стоит подбочась и смотрит на жалкие усилия мамы с язвительной, мутной усмешкой, и на челюсти дрожит желвачок. Он ей плещет в лицо, хватает за руки, пятясь тащит за собой по воде. Она жмурится, вопит. Я наблюдаю эти неуклюжие забавы, изнемогая от отвращения. Но вот он ее отпускает, принимается за меня, опрокидывает, хватает за пятки, как тачку катит вдоль песочного вала и хохочет, хохочет. Какие у него были сильные руки, как железные холодные кандалы, я и сейчас ее чувствую, ту грубую хватку. Он был грубый человек, мой отец, шутки, жесты, все было грубо, но он был и робкий, и понятно, что он нас бросил, не мог не бросить. Я наглотался воды, отчаянно вывернулся, вскочил на ноги, стоял и блевал в прибое.
Хлоя Грейс и ее брат стояли на твердом песке у края воды, смотрели.
Оба как всегда были в шортах и босиком. Я заметил, как поразительно они друг на друга похожи. Они собирали ракушки, Хлоя держала их в носовом платке, связанном уголками. Они стояли и нас наблюдали без всякого выраженья, как будто мы разыгрываем комический номер в их честь, а они его не находят ни смешным, ни интересным, просто чудным. Я, конечно, покраснел сквозь посинение и гусиную кожу, и я остро чувствовал, как тонкая струйка морской воды неостановимой дугой пробивала обвисший перёд моих плавок. О, если бы я только мог, я бы тут же вычеркнул, отменил моих постыдных родителей, прихлопнул, как зыбь морскую, — толстую, с голым лицом мать, отца, будто вытопленного из лярда. Бриз охлестнул пляж, вкось по нему пробежался, вздул пенку сухого песка, потом пошел по воде, ее разделывая на острые мелкие металлические черепки. Я дрожал, но уже не от холода, а как будто что-то сквозь меня пропустили — быстрое, тихое, неотвратимое. Парочка на берегу отвернулась и поплелась в сторону гиблого сухогруза.
Не в тот ли день я заметил, что пальцы ног перепончатые у Майлза?
Мисс Вавасур внизу играет на пианино. Придерживается деликатного туше, чтоб не слышно было. Боится меня потревожить в моих титанических, невыразимо важных трудах. Играет Шопена, вполне сносно. Только б не ударилась в Джона Филда, этого я не вынесу. Я было пытался науськать ее на Форе [3] Джон Филд (1782–1837) — ирландский пианист, композитор, педагог; Габриель Форе (1845–1924) — французский композитор, дирижер, педагог, музыкальный критик.
, на последние ноктюрны в частности, — обожаю. Даже купил ей ноты, из Лондона выписал, потратился, между прочим. Зря размахнулся. Говорит, у нее пальцев на такое не хватит. Скорей мозгов , — не отвечаю я. Еретические, еретические мысли. И почему она замуж не вышла? Ведь красивая была, в своем этом томном духе. Седые, длинные волосы — а какие черные были — затягивает в пучок на затылке, крест-на-крест его протыкает двумя булавками, большущими, как вязальные спицы, по-моему, весьма некстати посягая на образ гейши. Японскую ноту длит надеваемый по утрам шелковый пеньюар на манер кимоно, перехваченный кушаком, весь в бамбуках и экзотических птицах. В остальное время дня она предпочитает разумный твид, но вечером может побаловать нас с полковником, прошуршав к столу в зеленом миди с накидкой или испанского стиля малиновом болеро, черных широченных бананах и черных лаковых лодочках. Вполне себе элегантная старая дама, и под сурдинку трепещет, отмечая мой одобрительный взгляд.
«Кедры» почти ничего не сохранили от прошлого, от той части прошлого, какую я знал. Я рассчитывал хоть на какой-то след Грейсов, пусть полный пустяк, не важно, блеклую фотографию, позабытую в ящичке, локон, шпильку, застрявшую между половиц, но не было ничего, ничего. Даже духа их не осталось. Видимо, толпы живых — пансион как-никак — вытоптали следы мертвецов.
Читать дальше
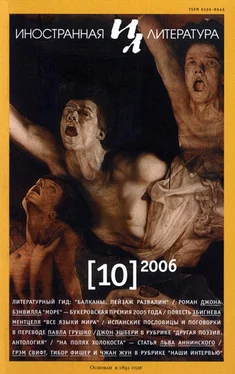

![Джеймс Баллард - И пробуждается море [Здесь было море]](/books/27389/dzhejms-ballard-i-probuzhdaetsya-more-zdes-bylo-mor-thumb.webp)