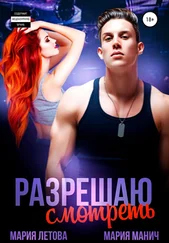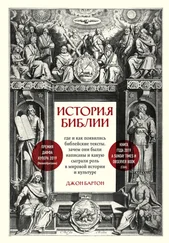*
Когда Дарвин думал о глазах млекопитающих, его, по его собственному признанию, прошибал холодный пот. В пределах его теории трудно было объяснить сложное устройство глаза, ведь оно подразумевало согласованность столь многих эволюционных «случайностей». Чтобы глаз хоть как-то действовал, необходимо наличие всех элементов: слезных желез, века, роговицы, зрачка, сетчатки, миллионов светочувствительных колбочек и палочек, передающих в мозг миллионы электрических импульсов в секунду. Эти сложнейшие части, пока не составили глаз, были бесполезны; так почему же их пощадил естественный отбор? Существование глаза коварно предполагает некую эволюционную цель, намерение.
В конце концов Дарвин справился с этим затруднением, вернувшись к существованию светочувствительных пятен у одноклеточных организмов. Он утверждал, что они были «первым глазом», с которого впервые началась эволюция нашего сложного глаза.
Мне кажется, самый старший из горилл слеп. Как Поццо у Беккета. Я спросил смотрительницу, молодую светловолосую женщину. Да, говорит она, он почти слеп. Спрашиваю, сколько ему? Она пристально смотрит на меня. Примерно как вам, отвечает, немного за шестьдесят.
Недавно молекулярные биологи доказали, что у нас с человекообразными совпадает 99 процентов ДНК. От шимпанзе или гориллы человека отделяет лишь один процент нашего генетического кода. Орангутан, что на языке жителей Борнео означает «лесной человек», стоит чуть дальше. Если взять другое семейство животных, чтобы подчеркнуть, как это мало — один процент, то разница между собакой и енотом составляет 12 процентов. Генетическая близость человека и обезьяны, помимо того, что благодаря ей разыгрывается наш театр, убедительно указывает на то, что наш общий предок существовал не 20 миллионов лет назад, как полагали палеонтологи-неодарвинисты, а, возможно, всего четыре миллиона лет назад. Это молекулярное доказательство оспаривают, поскольку оно не подкреплено существованием ископаемых. Но в эволюционной теории ископаемые, как мне представляется, всегда заметны именно своим отсутствием!
Нынче в англосаксонском мире все более активно выступают креационисты, принимающие историю сотворения мира из Книги Бытия за буквальную истину; они требуют, чтобы их версию изучали в школе наряду с неодарвинистской. Орангутан таков, каков он есть, говорят креационисты, ибо таким его создал Бог, раз и навсегда, пять тысяч лет назад! Он таков, каков он есть, говорят неодарвинисты, потому что преуспел в нескончаемой борьбе за выживание!
Глаза этой самки орангутана действуют точно так же, как мои, — каждая сетчатка с ее 130 миллионами палочек и колбочек. Однако выражение ее глаз — более старого я никогда не видел. Берегись: стоит приблизиться, того и гляди рухнешь в какой-то водоворот старения. Это падение есть и в фотографиях Жана Мора.
Недалеко от Базеля, вверх по Рейну, в Страсбурге учился Ангелус Силезиус, немецкий врач, живший в XVII веке. Как-то он написал:
Всякий, кто проводит более суток в вечности, стар, как Господь.
Я смотрю на нее, на ее веки — такие бледные, что, когда она закрывает глаза, они подобны глазным чашам, — смотрю и размышляю.
Среди неодарвинистских теорий попадаются любопытные — например, предложенная Болком теория неотении. Согласно Болку, «человек в своем телесном развитии — плод примата, достигший сексуальной зрелости», а следовательно, способен размножаться. В его теории высказывается предположение о том, что генетический код способен остановить один тип роста и способствовать другому. Человек — новорожденная обезьяна, с которой это произошло. Будучи незавершенным, он более способен к обучению.
Встречались даже доводы в пользу того, что нынешние человекообразные произошли от гоминида, а неотенический тормоз у них был отключен, так что они перестали останавливаться на стадии плода, их тело снова покрылось шерстью, череп у новорожденных стал твердым! Если так, они более современны, чем мы.
Но в целом концептуальным теориям, в рамках которых спорят неодарвинисты и креационисты, настолько не хватает воображения, что контраст между их узостью и необъятностью процесса, чье происхождение они ищут, вопиющ. Они похожи на две группы семилетних детей, которые, найдя на чердаке пачку любовных писем, пытаются восстановить историю, из которой эта переписка родилась. Обе группы изобретательны, они яростно спорят друг с дружкой, но страсть, выраженная в письмах, их пониманию недоступна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
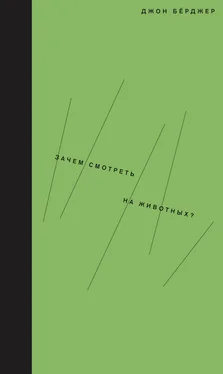
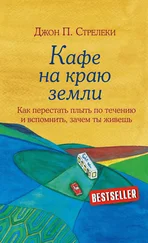

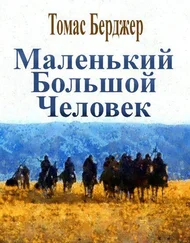


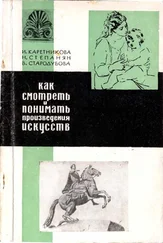
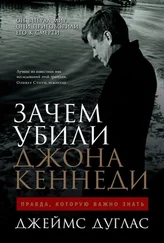
![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)
![Джон Берджер - Пейзажи [litres]](/books/437480/dzhon-berdzher-pejzazhi-litres-thumb.webp)