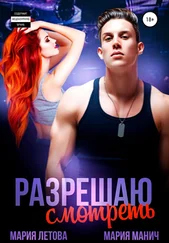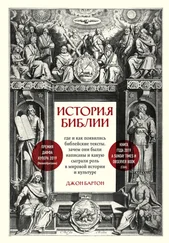Понятие эволюции очень старо. Охотники считали, что животные — в особенности те, на которых они охотились, — в некоем загадочном смысле приходятся им братьями. Аристотель утверждал, что все формы природы составляют ряд, цепь бытия, которая начинается с простого и затем все более и более усложняется, стремясь к совершенству. «Эволюция» по-латыни означает «развертывание».
В театр входит группа пациентов-инвалидов из местного учреждения. Одним приходится помогать взобраться на места, другие справляются сами, пара из них — в инвалидных колясках. Они образуют публику другого рода — или, скорее, публику с другими реакциями. Они менее озадачены, менее поражены, но находят спектакль более забавным. Как дети? Отнюдь. Они менее озадачены, поскольку лучше знакомы с тем, что выходит за рамки обыкновенного. Иначе говоря, их понятие о норме гораздо шире.
В 1859 году, когда впервые было опубликовано «Происхождение видов», Дарвин поразил читателей новым утверждением — о том, что все животные виды произошли от одного и того же прототипа и что эта крайне медленная эволюция проходила посредством определенных случайных мутаций, сопровождавших естественный отбор, действовавший по принципу выживания сильнейшего. Ряд случайностей. Непреднамеренных, не имеющих определенной цели, неподвластных опыту. (Дарвин отверг тезис Ламарка о том, что приобретенные характеристики можно наследовать.) Начальное условие, которым определялась достоверность теории Дарвина, было еще более шокирующим: какая бессмысленная трата времени впустую — около 500 миллионов лет!
До XIX века многие, если не все, считали, что миру несколько тысяч лет — время, которое можно измерить по шкале человеческих поколений (Книга Бытия, 5). Но в 1830 году Чарльз Лайель в своих «Принципах геологии» высказал предположение о том, что Земле, у которой «нет ни следа начала — и не видно конца», миллионы, возможно, сотни миллионов лет.
Мышление Дарвина было творческим откликом на ужасающий гигантский масштаб того, что только что открылось человеку. И свойственная дарвинизму печаль — ведь ни одна другая научная революция не принесла с собой столь мало надежды — шла, как мне кажется, от заброшенности, которую человек ощутил при виде этих расстояний.
Эта печаль, эта заброшенность слышна в последнем предложении труда «Происхождение человека», опубликованного в 1871 году:
Мы должны, однако, мне кажется, признать, что человек, со всеми его благородными качествами… все еще носит на своей телесной организации неизгладимую печать низкого происхождения.
«Неизгладимая печать» куда как красноречива. «Неизгладимая» в том смысле, что (к сожалению) ее ничем не устранить. «Печать» означает «клеймо, метка, пятно». А слово «скромное» в XIX веке, как и в тэтчеровской Британии, содержало в себе нечто постыдное.
Свобода, заключавшаяся в этом впервые открывшемся пространстве-времени вселенной, принесла с собой ощущение ничтожности и стыда, в результате чего уцелеть могло в лучшем случае лишь такое достоинство, как интеллектуальное бесстрашие, непоколебимость. А бесстрашия мыслителям того времени было не занимать!
Всякий раз когда актер, если он не младенец, хочет сходить по нужде, он встает и подходит к краю балкона или платформы и оттуда мочится или испражняется так, чтобы не запачкаться. Привычный акт, который редко разыгрывают на сцене. И эффект удивительный. Публика смотрит с некоей гордостью. Вполне законной. Смотри не наложи в штаны. Скоро мы вступаем в новый век.
Мыслители XIX века мыслили в основном механически, ибо их век был веком машин. Они мыслили в терминах цепей, ветвей, линий, сравнительных анатомий, часовых механизмов, сеток. Им были известны сила, сопротивление, скорость, конкуренция. Как следствие, они открыли много нового о материальном мире, об орудиях труда и о производстве. Меньше им было известно о том, о чем мы по-прежнему знаем мало: как действует мозг. Не могу выкинуть это из головы — оно где-то здесь, в самой гуще театра, который мы смотрим.
Человекообразные не живут целиком внутри нужд и импульсов собственного организма — как, например, коты. (В природе дело, может быть, обстоит по-другому, но на сцене это так.) Они обладают излишним любопытством. Все животные играют, однако большинство играют самих себя, тогда как человекообразные экспериментируют. Они страдают от избытка любопытства. Они могут моментально забыть о своих нуждах или о какой-либо одной неизменной роли. Молодая самка может притвориться матерью, ласкающей младенца, которого ей одолжила настоящая мать. «Сидеть с ребенком», так называют это зоологи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
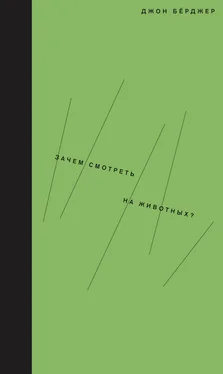
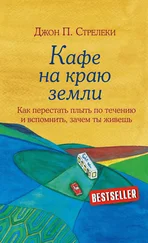

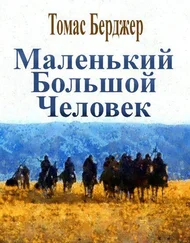


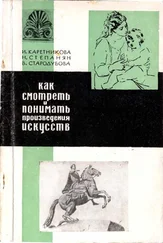
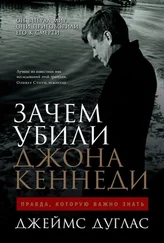
![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)
![Джон Берджер - Пейзажи [litres]](/books/437480/dzhon-berdzher-pejzazhi-litres-thumb.webp)