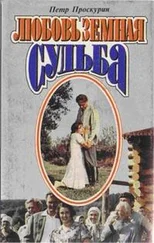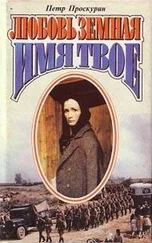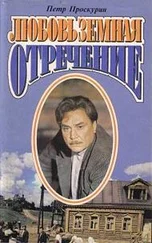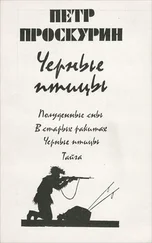Петр Проскурин - В старых ракитах
Здесь есть возможность читать онлайн «Петр Проскурин - В старых ракитах» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:В старых ракитах
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
В старых ракитах: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «В старых ракитах»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
В старых ракитах — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «В старых ракитах», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— У нас такого добра и днем с огнем не откопаешь, — сказала она. — Ни в нашей лавке, ни в районе, грят, перевелась эта рыбка в море. Ох, господи, в какие разы душеньку посолнить… Ну, бабы…
Старухи еще глотнули из своих стаканчиков и долго с удовольствием ели селедку с хлебом и картошкой, выражая свое удовольствие, покачивали головами, причмокивали, и даже их обесцвеченные временем глаза поблескивали в ярком свете одиночной пыльной лампочки под потолком. Василий знал их всех, знал и многие истории, связанные с их прошлой и теперь, казалось, никогда не существовавшей жизнью, — частью тяжелые, частью смешные или грустные.
У всех у них, согласно деревенскому обычаю, были и свои прозвища, и часто именно по прозвищу их знали больше, вот бабку Пелагею всегда называли Козой, а вот высокую и тощую старуху рядом с ней — Екатерину Анисьевну (сейчас она робко подцепила вилкой очередной кусочек селедки), до сих пор прямую словно жердь, сколько помнил себя Василий, всегда называли Анисихой. А вот эту толстенькую, разрумянившуюся от водки и еды Марию Андреевну, еще до войны лихо водившую трактор, так и прозвали Чумазой. Василий украдкой оглядывал их и тотчас, как только они замечали его внимание, отводил глаза, он чувствовал с ними нечто общее, и это было не в прошлом и не в том, что все они были родом из этого затерянного в русской глухомани поселка Вырубки. Их связывало сейчас нечто более крепкое и более вечное, но что это было, Василий не мог определить и, стараясь уйти от мешавших сосредоточиться на основном мыслей, стал думать о завтрашнем дне, о многих делах, что было необходимо успеть завтра сделать. Затем старухи долго, с интересом расспрашивали Василия о болезни и кончине Евдокии, охали и крестились, и Василии, хотя это было ему тяжело и неприятно, коротко и скупо отвечал, затем махнул рукой, и все замолчали.
Степан, топорща белесые брови, хотел было выйти к машине, посмотреть, все ли в порядке, но его тотчас остановили.
— Ох, ох, — оживленно удивилась бабка Пелагея, — да сиди ты, сиди! В поселке-то ни души более не осталось, все тут, — очертила она рукой округ стола.
— И-и, — поддержала ее, еще выше поднимая голову, бабка Анисиха, — это что теперь, теперь и по весне трактор доползет… А то как, бывалоча, воды по весне грянут, так и сидим на морю, во все концы одна вода, а мы посередке.
Вставший было Степан с тяжелой готовностью опустился на свое место.
— Что правда, то правда, — показал он в какой-то по-детски доверчивой усмешке щербатый передний зуб и сразу стал еще проще и ближе. — Уж кажется, где только не побывал, и по Северу, и в Сибири, а такого, братцы, не встречал.
Как же вы тут живете, в этой тьме? Да я бы тут на другой день в петлю полез…
— Ну, ты молодой, — тотчас возразила бабка Пелагея, туже затягивая у себя под подбородком концы темного, в белую горошинку платка. — Ты нас с собой не равняй, вот они-то, молодые, все и разбрелись по белу свету. А нам куда?
— У нас огороды есть, куры, — неожиданно низким грудным голосом вмешалась толстая бабка Чумазая, прославленная раньше затейница и непоседа. — У нас во-оля, так куры и ходят кругом — во-оля…
— Куры? — почему-то очень изумился именно этому обстоятельству Степан. — Проезжали, что-то я ни одной не заметил…
— Ну как же, что ты! — загорячилась, опять высоко вскидывая голову и выставляя вперед острый, морщинистый подбородок, бабка Анисиха. Неразумные, поди, говорят курица вроде дура, а курица — птица с умом, к вечеру она — на нашест, на нашест-пырх тебе! — и сидит, чистит перышки! А ты когда подкатил? А ты к вечеру подкатил! Во-о-о! Пырх — и сидит!
— Ой, мужики, беда, ох, беда липучая! — вздохнула, начиная волноваться, бабка Пелагея. — Лисица, проклятая, завелась где-тоть. Да, стервья, искрой-то, искрой, да такая хитроватая, да такая верткая, искрой тебе, искрой! На той неделе у кумы Агафьи петуха на глазах уволокла, мы стоим судачим, и петух тут, рядом, важный, золотистый, гребень-то к весне весь малиновый набряк, аж набок свесился. А она тут, стервья, из-за плетня, как молонья, — скок! Только перья полетели, а петуха и нету уже, у меня прямо ноги обомлели. Кума, говорю, кума, это ж она-стервья! «Ох, — говорит она, — чтоб ей…» — да с тем и заплакала, уж какой петух был, какой петух!
— Мы и в совхоз, на центральную усадьбу, ходили, — все с тем же дерганьем головы вверх пожаловалась бабка Анисиха. — Хоть бы мужик с ружьем, а? А там эти все от водки — во-о! — все распухшие, все ольгоколики! Каждый в присест по ведру в себя! Во! Все в гогот-го-го-го! Ты, бабка, грят, не туды! Лисица, грят, одна на всю губернию! Сейчас, грит, лисица-во-о! Под охранной печатью, грит! А что петух? Их, петухов, тьма-тьмущая, грит, под ликтричество комарьем из болота выскакивают! Во грит! Ольгоколики проклятущие, из глаз-то и то самогонкой разит! У нас тут летом гости наезжают, — вспомнила бабка Анисиха, в мягкой задумчивости глядя куда-то поверх головы Степана. — Внучку привозят из самой Тулы, э прошлый раз самовар привезли, пряников привезли целую коробку. А вон к ней, — указала она острым подбородком на толстую, с одобрением и интересом слушавшую бабку Чумазую с еще больше раскрасневшимися круглыми щеками, так прямо из Москвы дочка с двумя огольцами приезжает. А в прошлом году прямо на своей машине всей семьей, с мужиком, с зятем Володькой анженером, прикатили. Почитай, все лето грибы собирали да в речке плескались… А раков-то, раков половили, как пойдут, так ведро тебе, как пойдут-так ведро!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «В старых ракитах»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «В старых ракитах» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «В старых ракитах» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.