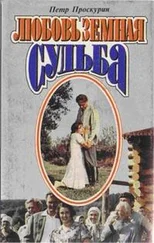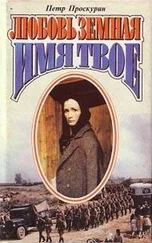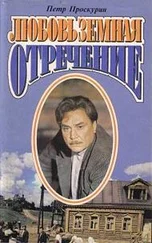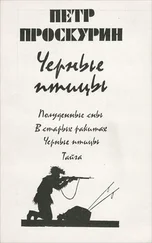Петр Проскурин - В старых ракитах
Здесь есть возможность читать онлайн «Петр Проскурин - В старых ракитах» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:В старых ракитах
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
В старых ракитах: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «В старых ракитах»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
В старых ракитах — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «В старых ракитах», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— А к осени у нас студентов да школьников полным-полно — на уборку-то их нагоняют, — вставила свое и бабка Пелагея. — Все пустые хаты позанимают, день и ночь галдеж!
Хоть и боязно, гляди, долго ли до пожара, а нам все радость. У них тут и гульбища, а в прошлую осень так свадьбу справляли! То-то было диво!
Все старухи враз заулыбались, закивали согласно, затем, как по команде, притихли, словно задумались о чем-то своем, самом сокровенном.
— Какая-то не такая нынче жизнь пошла, какая-то запойная, — вздохнула бабка Пелагея.
— Во, во! — с готовностью поддержала ее бабка Анисиха. — Сеют бегом! Убирают бегом! Налетят воронами, все поклюют, все перекопают! Глядишь, нету никого, нет ничего! Господи прости, анчихристы!
— Расхныкались, расхныкались! — не удержалась бабка Чумазая. — В один бок всего сразу не кинешь! «Раньше, раньше!» А что раньше? А теперь пенсию каждый месяц тебе домой! Такая-сякая гражданка бабка Анисиха, просим получить денежки, а? То-то и оно! А кто нас тут, в пустом поселке, держит? У всех у нас в городе кто-то есть, меня вон сын аж в Ленинград звал… а? То-то и оно!
— Пойду, повыть надо, — с суровым, отвердевшим и как-то сразу ставшим далеким и неприступным лицом сказала бабка Пелагея, и все старухи разом встали и прошли к покойнице, почти тотчас и Василий и Степан невольно вздрогнули.
— Да подружка моя Евдокеюшка! — тонким и пронзительным, полным немыслимого страдания голосом затянула бабка Пелагея. — Да куда ж ты ушла, моя горемычная подружечка, а меня бедовать на этом свете оставила? Да возьми меня в свою сторонушку невозвратную, уж ноженьки не ходють и глазоньки от слез совсем обессилели! Уж я…
Василий не выдержал, сморщился, не глядя на Степана, выскочил на улицу. На него обрушился теплый густой ветер, и он, подставляя ему горевшее каким-то особенным жаром лицо, пошел по мертвой улице, и, когда остановился уже за поселком, непроглядная темень, разрываемая яростными и веселыми порывами ветра, пласталась вокруг, и тут он понял, что за то время, пока он был под крышей, небо затянуло плотными, стремительно несущимися тучами, мелкой водяной пылью ему плеснуло в лицо, и дождь больше не прекращался. «Не выберется завтра Степан на дорогу», — тревожно подумал он и тотчас забыл, все мысли и тревоги заслонило какое-то пьянящее, безрассудное чувство слияния с беспросветной и стремительной ночью, с этой землей, бесконечно родной сейчас, захлестнутой весенней тьмой, плотно насыщенной несущейся водяной пылью. Ему было жарко, и сердце сгорало в какой-то первобытной муке. В неистовстве ветра он слышал сейчас то, чего не дано, да и нельзя слышать человеку, и, потрясенный, готов был остаться здесь навсегда и раствориться в этой безжалостной ночи, во все сметающей прочь перед собой и оставляющей за собой лишь нетронутое, готовое принять неведомые семена и дать неведомые всходы поле. И то, что не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу, и он, жалко всхлипнув от страха, что все это безумие и счастье промчится мимо него и исчезнет бесследно, пошел, задыхаясь, в густой мартовский ветер, пытаясь продлить это безумно прихлынувшее торжество души, и он услышал нежные, серебряные звоны, как когда-то в самом раннем счастливом детском сне.
Через час или больше, сгребая бегущие по лицу потоки дождя, Василий сбросил в сенях намокший дождевик и, повесив его на крюк, вошел, старухи, уже опять сидевшие рядком за столом, увидев его в дверях, враз повернули к нему головы, и он, пряча то, что пришло к нему, отвел в сторону словно промытые, налитые густым светом глаза, и все поняли, что спрашивать ни о чем нельзя. Он подошел к горящей печи и стал греть руки, от мокрого пиджака повалил пар.
— Ты бы, Василий, лез на печь, поспал чуток, — предложила бабка Пелагея. — Простуду, гляди, подхватишь.
Там вон на лежанке одежка, попонки лежат… одеяло.
Твой машинист давно храпит-заливается. Да глотни еще водочки, прогрейся…
— Во, во! Не-уросься, не уросься! Во! — поддержала ее и бабка Анисиха. — Нам все одно спать нельзя, душу провожаем, во…
Бабка Пелагея сама налила ему чуть больше полстакана, сунула в руки, и он выпил, затем, как в полусне, стащил с себя сапоги, сбросил набрякший тяжелый пиджак, забрался на широкую лежанку, где уже уютно похрапывал Степан, выставив вверх колени, стянул штаны и в одном белье с наслаждением лег на начавшие теплеть кирпичи. Он спал и не спал, он чувствовал, как чьи-то заботливые руки подсунули ему под голову подушку, а сверлу прикрыли почти невесомым от старости байковым одеялом, он затих, наслаждаясь теплом и покоем, и приглушенные голоса старух, коротавших за столом долгую ночь в разговорах, все отдаляются и отдаляются, но совсем не меркнут, и это даже не голоса, а что-то вроде огромного неба и шелест теплого, грибного, слепого, как говорили у них в поселке, дождя. А солнце по-прежнему светит, и весь мир объяла сине-малиновая радуга, одним концом на далекий лес, другим в речку-воду в небо тянет. Он почувствовал запах свежести, приподнял голову, по она тут же упала на подушку, и теперь радуга уткнулась одним концом прямо в его глаза, ему и страшно, и хорошо, потому что эта цветистая, радостная дорога размыкает перед ним самые дальние горизонты, уносит его в немыслимую высь, и вот уже нет у него глаз, их выпила радуга, нет его самого, но зато теперь он везде, теперь он и здесь, и высоко в небе, и на самом дальнем краю земли. Но что же это, что?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «В старых ракитах»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «В старых ракитах» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «В старых ракитах» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.