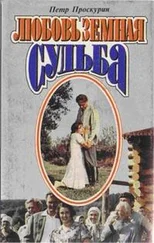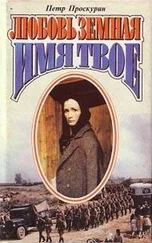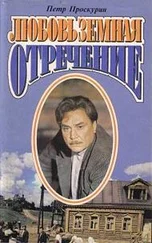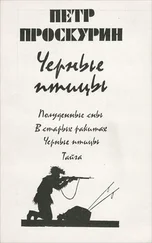Он сейчас непрерывно думал о том, как пятнадцать лет назад уезжал в город, так и не сумев уговорить мать ехать вместе с ними, и как Валентина настаивала разделить дом, оставить матери одну кухню да погреб, а все остальное продать — пятнадцать лет тому дома в поселке еще были в цене, это теперь они никому не нужны, стоят и гниют, заброшенные. Валентина даже грозила тогда разводом, и он, едва не поддавшись, в самый последний момент опомнился. Мать была умна, она все понимала, и ее скупые слова: «Спасибо, сынок, хоть не придется теперь на старости лет по чужим углам таскаться» до сих пор помнились ему и обжигали стыдом, нельзя было допускать до таких слов. А как она его уговаривала не бросать институт, выдюжить, на все свое хозяйство махнула рукой, в город прикатила, под конец от досады даже расплакалась. Тогда Василий пообещал, что это отступление на время, и сам этому искренне верил, а мать оказалась, как всегда, права, трудно нагонять упущенное…
Но сейчас, с трудом вытаскивая из разомлевшей земли тяжелые от налипшей на них грязи сапоги, он мучился от другого: он думал, что, если бы смог тогда уговорить мать переехать в город, она бы, пожалуй, и еще протянула, а то ведь что у нее за жизнь была последние годы? Все одна да одна, словом не с кем перемолвиться, печка, да за водой к колодцу, да кур держала, поросенка, огород-вот и загнала себя окончательно. Приезжая по осени, он, не раздумывая, нагружал машину мешками с картошкой, ящиками яблок, различным вареньем да соленьями, салом, он ни разу и не задумался, как все это доставалось матери…
Гроб вновь подняли и понесли, Василий медленно зашагал следом, постепенно сердце начало томиться и появилось чувство слабости, ему, пока на них медленно надвигались с песчаного холма ракиты, окружавшие погост, опять начинало казаться, что он теперь один на всей земле, что он теперь далеко впереди, а все остальные отстали, что это его притягивают высокие, от солнца и теплого ветра за какие-то несколько часов заметно позеленевшие ракиты вокруг погоста, что это именно его они ждут, «Хоть бы скорей все кончилось», — невольно подумал он, стараясь идти все так же спокойно и ровно, чтобы никто не мог догадаться о его мыслях и о том, что в нем творилось, когда у самого погоста старухи потребовали остановиться, он был готов закричать на них. Но он сдержался и промолчал. Гроб опять опустили на табуретки, и тогда Василий понял, что старухи хотят внести покойницу на погост самолично, они деловито суетились, примеривались, прилаживались, вездесущая бабка Пелагея заправски, словно она только и занималась этим всю свою жизнь, командовала. Старухи — и бабка Пелагея, и высокая тощая бабка Анисиха, и круглая бабка Катенька, и та, что читала, в очках, и еще две или три незнакомых Василию старухи-окружили гроб. Что-то одинаковое было в их лицах, в руках, в манерах говорить, Василию стало почему-то страшно, и он поднял глаза к вершинам ракит. Эти старые, неприхотливые деревья были приятнее старых людей, в них жило что-то чистое и недосягаемое. И откровение обожгло душу Василия, пусть иногда жизнь убога и отталкивающа, но вот сейчас, здесь, на тихом клочке земли, в напряженно гудящих старых ракитах, на этом последнем прибежище человеческой жизни, все было покоем и чистотой, и это чувство выжгло все темное и ненужное в его душе и очистило ее. Перед ним сейчас словно обнажилась сама душа жизни, ее сокровенная языческая тайна, и все очистилось, и все преобразилось, в обезображенных временем лицах старух проступили мудрость и предельная завершенность, в том, как они шажок за шажком продвигались с гробом на руках, таилось скорее свершение высшего порядка, чем простое бесстрашие, это была сама жизнь, и сейчас выполнялась ее самая простая и беспощадная формула. Здесь не было ни фальшивых речей, ни венков с не менее фальшивыми надписями, ни томительного стояния в карауле, здесь все было просто и необходимо. Поголосили над открытым гробом старухи, непременно напоминая покойнице о скорой встрече и прося ее приготовить и для них там местечко получше да посуше, затем все молча постояли. Василий неловко тянул шею над окружившими гроб и могилу людьми, стараясь в последний раз увидеть лицо матери и понять то, что происходит. Лицо матери было чужим, Василий быстро отвернулся и шагнул в сторону, он не хотел, чтобы мать запомнилась ему в последний раз такой, это ведь была не она.
Гроб опустили, он подошел и бросил в могилу горсть сырой земли. Затем он опять отступил в сторону, и только тогда глазам его стало горячо и сердцу покойно. Он вначале не видел ракит, хотя смотрел на них, но постепенно их проснувшиеся ветви заплескались в его глазах все отчетливее. За несколько часов дождя, солнца и теплого ветра мелкая россыпь почек на них увеличилась, стала заметнее, сами ветви отяжелели от пробудившейся и томившей их силы. Под нестихавшим, как это часто бывает весной, ветром ветви были в беспрерывном движении, они изгибались в бесконечной голубизне неба, свивались в жгуты, вновь дружно устремлялись по ветру в одну сторону. Василий смотрел долго, он теперь понял, что и землю, и небо, и ракиты, и ветер, и его самого соединял в одно целое какой-то один ток, один непрерывный согласный звук.
Читать дальше