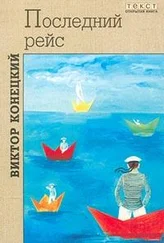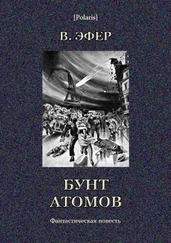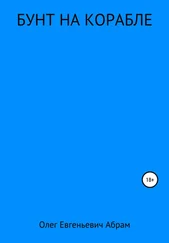2
СКВОРЦЫ
Дед Аким, моя мама, наш маленький фольварк, в котором я вырос, — все это уже совсем-совсем прошлое и оставшееся где-то далеко позади, только в моей памяти. И об этих ласточках, о которых я никогда не забывал, я все же отметил очень кратко: «Ласточки. Сентябрь-декабрь 1915 года. Фольварк». Больше мне не надо было писать ничего: все это передо мной ярко и отчетливо.
И вот в моем дневнике от 2 декабря 1942 г., двадцать семь лет спустя, я написал: «Скворцы». Я вам объясню в чем дело.
В этот холодом и пронизывающим ветром наполненный день 2 декабря 1942 года я стоял в легкой шинели летчика и дрожал крупной, изнутри идущей дрожью. И не потому, что было 40 градусов ниже нуля, не потому, что впереди и сзади, справа и слева скорбно охала промерзшая земля от взрывов полутонных, сверху падающих бомб. Не потому, что тысячи орудий, подтягиваемых на позиции мощными тягачами, бросали через нас и в нас снаряды, и весь воздух был в движении от грохота.
Да, так вот. Это было в деревне Аксаново. Около деревни сохранился старый, красивый дом, чье-то бывшее имение, теперь называемое «Дом отдыха Красновидово». И все это было расположено в 12 верстах от Можайска.
Около этого Красновидова проходила линия фронта. Я имел к нему очень непосредственное отношение. Вот он, совсем недалеко, стоит и самолет, который так трудно поднять в воздух при сорока градусах ниже нуля. Мне надо идти туда, надо спешить к аэродрому и я не могу идти. Я стою потерянный, возвращенный на 27 лет назад, и вижу: на телеграфных проводах, на проволоке полевых телефонов сидят темные, нахохлившиеся скворцы.
Они совсем равнодушны и ничего уже не боятся. И я знаю почему. Я отчетливо вспоминаю осень 1915 года и ласточек в нашем фольварке.
Я не нуждаюсь в объяснениях, почему здесь остались скворцы. Я сам могу рассказать, как они натолкнулись на огненную узкую полосу фронта, перерезавшую их воздушный путь на юг…
На аэродроме уже ревут разогретые моторы. Мне надо спешить…
Потом я возвращаюсь в свой бункер, мне очень хочется есть, я прямо-таки мечтаю, что вот, дескать, приду и хвачу стакан рома. Я возбужден воздухом и ревом моторов. Может быть, подсознательно возбуждает меня и мысль о том, что я все-таки жив, и могу на какое-то время спрятаться в свой железобетонный мир; а завтра…
И тут я вспоминаю скворцов утренних. И ласточек тех, давних. И уже во мне стыдливо гаснет возбуждение, уже мне не надо, не к чему спешить в бункер, потому что передо мной всплывают мутные глаза уже давным-давно умершего Акима и звучат грозно сказанные слова:
— За все ответит человек…
Мне уже не нужен бункер. Я иду туда, куда я должен пойти. И вижу темные шеренги скворцов на проволоках и проводах. А когда подхожу ближе, даже совсем близко, я говорю сам себе: «Вот как их стало мало»… Я не обманываю себя тем, что скворцы улетели. Нет. Я знаю все. И пугаюсь этого знания, и в глазах моих холод от бесчисленных темных пятен на белом снегу. Это лежат замерзшие скворцы, те, у которых застыла кровь и чье маленькое птичье сердечко остановил мороз.
Пристально, как на некие таинственные знаки, гляжу я на темные пятна по белому снегу. Что они обозначили? Чья судьба отмечена в этих письменах?
Мне захотелось кому-то и что-то крикнуть. Но я не крикнул, так как вдруг все мое внимание остановил один скворец. Он сидел на земле у совсем голого куста и бессильно пытался оторвать от почвы наглухо припаянный морозом сухой лист. Жалкими, ненужными и бесцельными усилиями этот скворец пытался поднять лист, веря в то, что под ним найдется живой червяк…
* * *
Бокалы еще не налиты. И мне немножко, совсем чуть-чуть, грустно, и потому я вытащил свои старые записки, и посмотрел в них, и остановился на ласточках и скворцах.
Судьба их была как-то связана с нашей странной жизнью. Потому я и рассказал не о людях, а о птицах, наших русских, хороших птицах, разделивших с нами русскую судьбу…
… А теперь:
— С Новым годом!
Франкфурт-Майн, 1950.
Три рассказа
Я познакомился с этим человеком случайно, в парке. Мы не сказали бы ни одного слова друг другу, если бы я не обратил внимания, что он всегда сидит на одной и той же скамье и что около него постоянно возятся воробьи.
Во всяком случае, я прежде всего заметил этих шумных и бойких задорных воробьев и только потом человека. Человек бросал крошки хлеба и с серьезной задумчивостью следил за птичьим скандалом.
Читать дальше