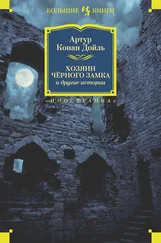– Прекрасный дневник. Прекрасный аноним, – сказал он, когда я открыла компьютер, чтобы мы вместе могли составить план. – Текст изумительный. Язык, язык! Какие слова! Ты обратила внимание? Над этим текстом просто витает тень платоновской прозы. Смотри, вот он пишет, что у него не осталось приличной одежды: «Так что стыдно поехать для использования отпуска в родную деревню» – это же абсолютно платоновский язык! Абсолютно! Или вот про то, что его экономика совсем дрянная.
– Я только «Котлован» в институте читала, да и то плохо помню, – призналась я.
– Ничего страшного. У Платонова особый язык, появившийся из чувства времени. Например, где-то было «устраняется с производства». Понимаешь, не увольняется, а устраняется!
Тут я вспомнила «беспрерывное изъятие людей» у Марии Сванидзе.
– Или вот еще у Платонова, – продолжал Миша. – «Я к ней приорганизовался». Ну то есть переспал он с ней. Приорганизовался! Из таких дневников, из записок твоего бедняги-анонима видно, как вырос этот язык, как сложился. Замечательная находка! Удивительно, какая ты иногда дура, а какая порою умница.
– Эй!
После этого мы читали вместе дневник, выбирая из него лучшие места.
– «Где-то в лесу раздался неряшливый выстрел с пугливым криком, – читал Миша вслух, и в голосе его было столько тепла, столько доброй и восхищенной иронии к моему анониму, что я чуть было сентиментально не прослезилась, – …вылетела стая обиженных грачей еще послышелся безжалостный огонь и в воздухе закружилась жертва. Белый грач жалкая жертва человека злодея упал в реку слегка обозрив мутную воду вину по тичению скрылся из глаз. Вот она жизнь живых». Но это же он Тургенева начитался! А, вот он и пишет в другой записи, выше, что читал «Записки охотника». Ты знаешь, ведь это трагедия. Ведь он же живет в кошмаре, в тридцать втором году, в Козлове, он голодает, у него нет ботинок и брюк. И он читает Тургенева, Толстого, Некрасова, Гоголя и хочет стать сверхчеловеком новой эпохи, все лучшее взяв из мира, который был уничтожен и осквернен. Все эти его занятия – живопись, литература, наблюдения за природой, – все это удаляет его от общества, новейшим продуктом которого он так желает быть! Ведь это конфликт! Основной конфликт текста: наш аноним еще не Дон Кихот, но уже отъехал!
– Так, а вот эту фразу я запишу.
– Но ты же понимаешь, что он в конце умер? – сказал вдруг Миша.
Я вздрогнула.
– Почему умер?
К концу дневника мой аноним перенес тяжелый грипп и в отчаянии от бедственной своей «экономики» вернулся в родное село. Последняя запись была датирована 17 июня 1932 года. Он сообщил, что живет теперь дома, ест лучше, чем в городе, но беспокоится, что живет на попечении и не имеет своего хлеба и картошки. Много занимается садоводством, отправил письменные работы в заочный сектор какого-то института. Готовится к зачету. Последние строки: «Но все же не удобно жить и ест хлеб гокда своею нет. Но нечего».
– Почему умер? – повторила я.
– Ты очень верно заметила, что дневник этот при желании можно рассмотреть как полноценное художественное произведение. Если бы это и впрямь было художественное произведение, о чем говорил бы нам такой конец? Герой вначале яростно принимается за самообразование, ставит цели, преодолевает трудности, но время, само время, его условия постепенно сводят на нет все усилия. Чем больше он занимается саморазвитием, тем больше отчуждается от реальности. В тексте четко обозначен конфликт – между мечтой и реальностью, между внутренним миром и внешним, между внутренним прогрессом и тем, что выдается за прогресс в мире внешнем. Иными словами, между человеком и государством, в котором он живет. Что может означать в таком случае последняя запись, ну?
– Что он сдался?
– Конечно. Смерть идеи или смерть реальная. Это в любом случае поражение. К тому же не забывай, что следующий год – тридцать третий – тоже голодный. Он в деревне и без работы. Вспомни, что делали тогда с деревней, как изымали у нее все, что можно было изъять. Да что там голод: подумай, сколько опасностей подстерегало такого бедолагу, как твой аноним, в тридцать втором году!
– Да уж.
Конечно же, Миша был прав.
Чтения состоялись. Я волновалась ужасно, и, мне кажется, вышло не очень. В тех местах, которые мне казались смешными, никто не смеялся. Все смотрели очень серьезно. «Никто даже не улыбнулся!» – в отчаянии писала я Мише тем же днем. «Оля, опомнись! – строчил он в ответ. – Это ужасно трагичный текст! И твое выступление, то, что ты сама написала, там совсем ничего не смешно!» Это Мишино замечание меня отрезвило. Я задумалась и вдруг поняла, что настолько сдружилась со своим анонимом, так его полюбила, что как будто начала легонько над ним подтрунивать – над этими его смешными словечками, поразительными сочетаниями слов, восторженной интонацией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)