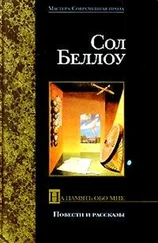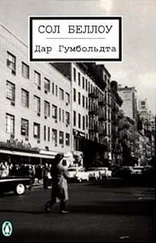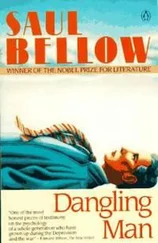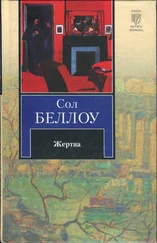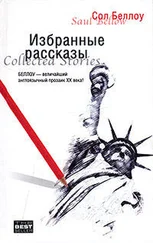— Никогда не были раньше в Детройте, — возразил я. — Только что приехали.
— Откуда?
— Из Кливленда. Путешествуем автостопом.
— Лжешь, сукин сын! Вы из банды Фоли и промышляете воровством запчастей. Но мы вас схватили. Всех вас достанем.
— Но мы не из Детройта. Вот я из Чикаго.
— Куда едешь?
— Домой.
— Ничего себе. Из Кливленда в Чикаго через наш город. Лучше не мог придумать? — Он покосился на Стоуни. — А ты что скажешь — откуда путь держишь?
— Из Пеней.
— Точнее.
— Это недалеко от Уилкс-Барре.
— И куда направляешься?
— В Небраску, учиться на ветеринара.
— На кого?
— Ну, кто лечит собак, лошадей.
— А может, крутится рядом с «фордами» и «шевроле»? Бандюга чертов! Ну а ты откуда? Где твой дом? Послушаем, — повернулся он к Волку.
— Тоже в Пенсильвании.
— Где именно?
— Рядом со Скрантоном. В небольшом поселке.
— Насколько небольшом?
— Жителей пятьсот будет.
— Ну, а название у него есть?
— Его никто не знает.
— Еще бы! Ну так что за название?
— Драмтаун. — Глаза Волка забегали, а губы дрогнули в улыбке.
— Должно быть, ужасная дыра, раз там плодятся такие крысы, как ты. — Сержант открыл ящик стола.
— Его нет на карте — он слишком маленький.
— Ничего. Если есть название, он будет на моей карте. Здесь все есть.
— Но он еще не зарегистрирован. Пока чересчур незначителен.
— А чем там занимаются?
— Уголек рубают. Понемногу.
— Антрацит или битуминозный?
— И тот и другой, — ответил Волк, наклонив голову. Улыбка еще не сошла с его лица, но нижняя губа отвисла, обнажив десны.
— Ты из банды Фоли, дружок, — уверенно произнес сержант.
— Нет, раньше я не бывал в этом городе.
— Позови-ка Джимми, — попросил сержант одного из полицейских.
Джимми со старческой неспешностью поднялся по узкой лестнице оттуда, где находились нижние камеры. Тело его было дряблым, как у тучной пожилой женщины, на ногах — тряпичные тапочки; шерстяной, застегивающийся спереди, пуловер поддерживал отвислую грудь. Каждый вдох, казалось, отнимал у него частицу жизни. Седая голова клонилась от слабости, но ясные, проницательные глаза оживляли пожелтевшее, невыразительное лицо. Они настолько не сочетались со всем остальным, что, казалось, не имели к старику никакого отношения и существовали сами по себе. Джимми всмотрелся в Стоуни, затем в меня, перевел взгляд на Волка и уверенно заявил:
— Ты был здесь три года назад. Обокрал мужчину и получил шесть месяцев тюрьмы. Три года исполнится в мае. Через месяц.
Ну и память у полицейского!
— Ну что, бродяга, значит из Пенсильвании? — спросил сержант.
— Я действительно отсидел шесть месяцев. Но Фоли не знаю и запчасти не крал. Вообще в машинах не разбираюсь.
— Всех в камеру.
Нам велели вывернуть карманы — искали ножи, спички и прочие вещи, которыми можно нанести вред. Но мне эта процедура говорила о другом: выходит, существует возможность забрать твои вещи, а тебя убедить, что не ты хозяин своей судьбы и предметов в собственном кармане, — вот такая была у них цель. Итак, мы опустошили карманы, и нас повели вниз, мимо камер с хрустящей соломой, и заключенные вставали с коек, чтобы посмотреть на новеньких через решетки. На одной кровати я увидел раненого глухонемого — он сидел, обхватив голову, словно волхв. Нас привели в конец этого ряда, там спал человек, обладавший исключительной памятью; может, он в дреме проводил всю ночь, сидя на стуле под металлической сеткой. Нас запихали в большую камеру, откуда сразу послышался вопль:
— У нас нет места! Все забито!
Раздались неприличные звуки, производимые губами, фырканье, спуск воды в туалете, грубые шутки — свидетельство открытого пренебрежения. Камера действительно была переполнена, но нас все равно втолкнули туда, и нам пришлось устроиться на корточках на полу. Второй глухонемой тоже находился здесь — сидел в ногах у пьяного мужчины в неудобной позе пассажира третьего класса. Яркий свет здесь никогда не выключали. В этом была особая тяжесть, как в надгробном камне.
А утром за стеной возобновилась обычная круговерть — глухое громыхание грузовиков, негромкое позвякивание троллейбусов, едущих со скоростью стрекозы.
Должен сказать, я не считал трагедией случившуюся со мной несправедливость. Просто хотел оказаться на свободе и продолжить путь — только и всего. А вот за Джо Гормана, которого поймали и били, переживал.
Однако я ощущал здесь присутствие зла, как было раньше в Эри, штат Пенсильвания. Оно касалось всех. Его нельзя было попробовать ножкой, словно на картине «Сентябрьское утро» [133] Картина французского художника Поля Эмиля Шаба (1864–1937), на которой изображена входящая в воду женщина. Была популярна в США как декоративный элемент, украшавший витрины и т. д.
в витрине парикмахерской. Или погрузиться с любопытством наблюдателя, подобно древним восточным правителям, которых опускали в стеклянном шаре в водоросли для наблюдения за рыбами. Нельзя было вытащить после неудачного падения, как подняли из грязи Арколе Наполеона, задумчиво стоявшего под венгерскими пулями, градом сыпавшимися на крутой склон. Лишь греки и их поклонники, под ярким солнцем, в мире, пронизанном красотой, считали себя недоступными для зла. Но они ошибались. И все же ими восхищаются остальные — грязные, голодные, бездомные, ветераны войны, неуживчивые и старательные; умирающее, страдающее, бесхребетное человечество; множество людей — кто-то у дымящегося Везувия, кто-то в душной ночной Калькутте, но все они хорошо знают, где находятся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу