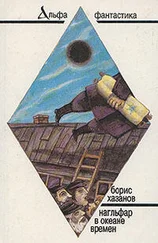Я впился в него глазами, надеялся, что это по крайней мере заставит его одуматься. Куда там — он насупился, нахохлился, поглядывал на меня волчьими глазами из-под клокатых бровей. Мрачно, с шумом втянул воздух в ноздри и отвёл глаза в сторону.
«Но искусство мстит! — воскликнул я, подняв палец. — Искусство мстит за подлянку! Вот результат, — я показал на пухлые папки и то, что лежало стопкой на столе. — Ну-ка живо, — приказал я. — Принеси какое-нибудь блюдо. Или поднос».
Он подчинился… вернее, я подчинился. Бесполезно, я думаю, пытаться объяснить, каким образом мы опять поменялись местами. Лёгкое головокружение, минутная потеря сознания… Впрочем, я и сейчас еле держусь… Словом, для этого понадобилось одно мгновение. Я снова стоял посреди моего опоганенного кабинета. Почему опоганенного? Сейчас станет ясно. Авантюрист, самозванец, которого никто не приглашал, который и внешне, по-моему, не так уж и был похож на меня, — мне даже подумалось, не разыгрывает ли меня кто-то, — ощерясь, сложил на подносе моё творение.
«Э, э! — закричал я. — Запрещаю! Не смей! Ты наделаешь пожар!»
Он поднёс к стопке листов зажигалку. Комната наполнилась дымом, моя проза пылала; он шуровал в костре, приподнимал горящие страницы чем-то подвернувшимся под руку, пепел хлопьями носился в воздухе; совершив это ауто-да-фе, гость потребовал тряпку. Я должен был убирать следы, выносить остатки, пришлось открыть окно. Чёрная ветреная ночь ворвалась в мою обитель. Всё это время он сидел, развалившись в моём кресле, с чрезвычайно довольным видом.
С тряпкой в руках, утирая слёзы рукавом, я стоял посреди комнаты.
«Это ваша щётка?» — спросил я снова.
«Какая щётка?»
«Зубная, в ванной. Забирайте её и… и чтоб вашего духу здесь не было».
«Что это значит?» — сказал он надменно.
«А вот то и значит. Пошёл отсюда вон!» — завопил я.
Моя борода трепыхалась от гнева и сквозняка. В сердцах я захлопнул окно.
«Та-ак, — медленно проговорил он. — Ты меня выгоняешь. А если я не уйду?»
Я швырнул тряпку в угол, машинально отёр ладони о халат. Он поморщился.
«Ты бы хоть руки вымыл… Ну что ж, как будет угодно вашему сиятельству. Я ведь желал тебе добра. Я ведь только напомнил. Думал, может, у него проснётся совесть…»
И он задумался на минуту.
«Есть предложение. Давай расстанемся благородными противниками. Будь добр, не в службу, а в дружбу. Принеси там… из прихожей».
Тут надо бы удивиться, спросить, что ему надо. В крайнем случае сказать: ступай сам, если тебе нужно. И остаться, наконец, одному. О, как хотелось остаться одному! Сесть в кресло, обдумать случившееся. Ничего такого я не сделал, вынес что он просил.
«Я не умею фехтовать, — сказал я. — Никогда в жизни не держал…»
«Ничего, научишься. Вот это дага. Бери в левую руку. А в правую… Только, знаешь. Надень что-нибудь поприличней. Сейчас я тебя заколю по всем правилам».
Я вернулся, на мне были алые бархатные штаны до колен, чулки, туфли с пряжками, белая полотняная рубашка с рюшами на груди. По дороге я заглянул в ванную, мои седые кудри вокруг сверкающего черепа произвели впечатление на меня самого. Я благоухал духами. Вошёл — на нём был такой же костюм.
Бросили жребий. Я поймал на лету шпагу, брошенную мне.
Мы отсалютовали друг другу и встали в позицию, в правой руке шпага, в левой короткий кинжал.
Несколько раз мы скрестили наше оружие. Получалось недурно. Он выкрикивал фехтовальные термины, я молча парировал.
Он засопел, глаза его засверкали, и стало ясно, что игра превращается в бой.
С полной ответственностью заявляю, что у меня не было намерения убивать его. Кто бы он ни был. Я был очевидным образом сильнее и ловче. Мне удалось выбить у него из рук шпагу, мы сблизились почти вплотную друг к другу, и я ударил его наотмашь кинжалом в грудь. Он прошептал: «Ты убил меня — свою лучшую часть…» Падая, мой противник успел ткнуть меня своей дагой. Я пошатнулся и выронил шпагу.
Крутись, лента, крутись… Я уже почти не здесь. Я — где-то. Мне только нужно успеть договорить…
Non omnis moriar. [47] Я умру, но не весь ( Гораций, ода III, 30 ).
Дни мои сочтены, врачи перестали меня обманывать, я стараюсь не видеть себя, не замечать своё иссохшее тело. Я тот, о котором говорят вполголоса. Лишь дух остаётся бодр; похоже, что он и умрёт последним.
А мне бы хотелось уйти во сне. Я понимаю, что такое желание недостойно философа, которому подобает встретить смерть с открытыми глазами. И всё же я предпочёл бы расстаться с жизнью заочно, как расстаются с бывшей возлюбленной, послав ей письмо. Человек, умерший во сне, не знает о том, что он умер. Спящий не знает, что он спит. Оттого он как бы и не умер: ведь смерть для него — в худшем случае сновидение. Проснувшись, он узнал бы, что умер на самом деле, но он не проснётся; узнал бы, что его уже нет, но никогда этого не узнает; если же наша жизнь есть сон, а смерть — пробуждение от великого сна жизни, то нужно приветствовать смерть.
Читать дальше