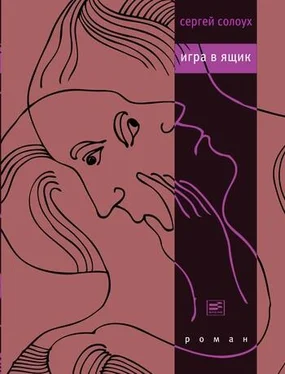Сердце Владимира забилось от этих слов с удвоенной энергией, и серая пелена, столько дней и ночей стоявшая перед ним, начала буквально на глазах распадаться, открывая всю гамму таких долгожданных цветов. Красного, синего, желтого.
– Спокойно готовьтесь к осенней отчетной выставке, товарищ Машков, – продолжал говорить где-то там, у себя на Новой площади, старый и добрый товарищ Аркадий Волгин. – Новый состав выставочной комиссии не допустит прежних отклонений от линии партии, можете не волноваться...
Но Владимир не мог не волноваться, душа художника переполнилась счастьем, и, как всякая творческая, непредсказуемая натура, он сейчас же удивил и обрадовал своего высокого собеседника точностью и даже своевременностью художественных ассоциаций.
– А как там наша Угря, Аркадий Николаевич? Простите, что я с вами так по-свойски... Прерываю... Но вы, наверное, видели ее там, когда еще были у себя, в Миляжково...
– Видел, конечно, – ответил Аркадий, нисколько не обидевшись на такую непосредственность человека искусства. Наоборот, голос его вдруг потеплел и стал совсем близким и дружеским. – Угря молодцом! – сказал Аркадий. – И скоро вся страна о ней будет говорить, и, мы надеемся, не без вашего активного участия, товарищ Машков.
Разговор уже закончился, а Владимир все стоял и стоял с телефонной трубкой в руке посреди темного коридора. Счастье и радость переполняли сердце художника.
– Вся страна услышит, вся страна, – повторял он, все еще не веря в этот по всем законам неизбежный, но так долго подготавливавшийся поворот его судьбы.
Когда же наконец взор Машкова совершенно прояснился, а вера в партию и страну как будто свежим воздухом наполнила опавшие было у него за спиной крылья, Владимир начал будить инвалида.
– Никитушка, – говорил художник, тряся погруженного в высокие и чистые мысли гвардии ефрейтора. – В ЦК знают о нашей Угре, в Центральном комитете о ней говорят, о нашей Угре... Понимаешь?
– Об Угре? Понимаю... – сказал Никита Ильин, с трудом открывая залитые думой глаза.
Опершись на руку Владимира Машкова, ординарец майора Деева с огромным трудом поднялся с пола, но встав и широко расставив ноги, он уже не качался, а стоял, как могучий дубок, перед художником. Непобедимый и непоколебимый.
– В ЦК, – радостно повторил Владимир.
– Угря? – еще раз уточнил инвалид, сверкая красными глазами. – Наша, говоришь?
И не успел Владимир в ответ кивнуть головой, как получил сильнейший удар кулаком в грудь. А потом в лицо, а потом еще раз и еще раз. И даже ногой в пах, когда Машков уже упал на пол. Никогда еще так изобретательно и долго не бил художника сосед. Он сломал Владимиру нос в двух местах, а от страшных ударов ногой в грудь кровавая слюна запеклась у Машкова на губах. Но в этом розовом тумане, ослепительной и вдохновляющей боли, слитом неразрывно с именем Угри, с незабываемым образом ее тоненькой белой руки, как флаг, как вымпел, вьющейся в темноте коридора, задание партии показалось Владимиру простым и понятным, как никогда до этого.
Рыба! Одна-единственная, но какая! Рыба-вспышка, рыба-стрела, тонкая длинная молния, словно солнечный луч, ослепительный зигзаг, пронзающая толщу тяжелой зеленой воды. Существо-герой, существо-победитель, безоглядно жертвующее собой ради тех сотен тысяч, что пойдут уже следом, по огненной просеке, пробитой этой одной во враждебной и темной массе бездушного океана.
Луч света, летящий из необозримой бездны наверх, чтобы там, за кромкой мрака, стать неразличимым атомом великого общего дела, навеки соединиться с необъятной бесконечностью солнца. Вот что в случае удачи художественного решения окажется необыкновенным рывком и качественной, давно уже назревшей переменой в творческой эволюции самого художника Машкова, шагом вперед от его прежних полотен, в которых каждый член пусть и единого рыбного косяка еще индивидуален и обособлен, еще формально сам по себе в общем, не знающем преград порыве.
Едва лишь оказавшись в своей комнате, Владимир водрузил на давно уже пустовавший мольберт белое, еще весною загрунтованное полотно и начал писать. Делал он это с неистовством, похожим на ожесточение. Вытирая сукровицу рукавом рабочего халата и сплевывая горлом идущую кровь на старую, верную палитру. Щурясь, отходил Владимир от мольберта, закрывал глаза, вызывая в памяти знакомый, до боли близкий образ, и снова писал... Когда через неделю в окно заглянул вечер следующей субботы, картина была готова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу