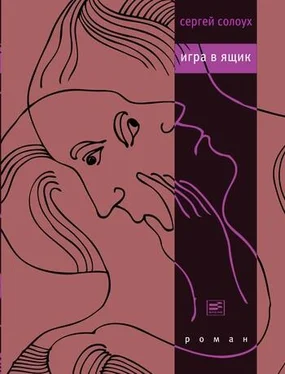В конце концов именно это поначалу неверное и смутное чувство незыблемости его физического положения, день ото дня укрепляясь и становясь, как мелодия русских ручейков в марте, отчетливым и ясным, вернуло Сукина к жизни. Однажды утром он открыл глаза и увидел возле своей кровати тетю. Она сидела в чем-то немыслимо чистом и белом, словно сшитом не из ткани, а из свежих лепестков роз и орхидей, такая зеленоглазая и розовогубая, что Сукин невольно рассмеялся, потом заплакал, потому что счастье его в своей огромности не признавало сторон света, плюсов и минусов и, словно океан, совалось во все уголки данных природой Сукину чувств и ощущений. Он не погубил единственную на всем огромном свете золотоволосую тетю своим беспамятством, не стал в очередной раз орудием убийства и медиумом исчезновения, он...
– Простите, – прошептал Сукин, приподнимая голову, – простите, я... Это потому, что Валентинов на меня кричал... он хотел... он рукой...
– Он больше никогда, никогда уже этого не сделает, – быстро сказала тетя, ласково, но повелительно укладывая еще горячую голову Сукина на мягкую прохладную подушку. – Никогда...
– Почему? – спросил Сукин, послушно закрывая глаза.
– Потому что Бог нам помог, – ответила тетя, но ее слов Сукин уже не слышал, он спал ровным и спокойным сном выздоравливающего ребенка.
Через неделю Сукин уже настолько поправился и окреп, что врач разрешил ему автомобильные прогулки с тетей в Венсанском лесу. От скрипа мелкого гравия под колесами, от сладких причмокиваний тетиных губ, от света, черно-белыми пальцами быстро-быстро перебиравшего шторки на окнах пассажирского салона, Сукину казалось, что вовсе не стебелек с тяжелым горячим бутоном отныне поднимается из его тела, а само его тело, все целиком, уходит, преображается в могучий ствол и корень, раздирающий небо и землю во всю ширь баобаба и вышину секвойи, и ничего не оставляет это взрывообразное сгущение и расширение плоти, кроме всепоглощающего солнца. Через час-другой вылизанный и умытый Сукин уже сидел с тетей в кафе швейцарца Пульвермахера и важно ел фондю, наматывая густой мед сыра на тростниковый рафинад подсушенного хлеба. А тетя тем временем рассказывала о Мексике, таинственной и прекрасной стране, в которую она собиралась увезти Сукина, как только доктор Тувабьен решит, что мальчик уже совершенно здоров и готов к длительному морскому путешествию.
План тети был очень прост. Она понимала, что через два или три года, в двадцать четвертом или двадцать пятом, Сукин вытянется еще на десять-пятнадцать сантиметров, раздастся в плечах и растолстеет настолько, что никаких следов волшебного мальчишеского мармелада в нем больше не останется, но разве невозможно, думала тетя, заглядывая в воображаемую подзорную трубу времени, как в полный многоцветных чудес калейдоскоп, при некоторой ловкости и при посредстве не самых больших денег, просто соединив Сукина с какой-нибудь изящной заокеанской сиротой-креолкой, заставить его произвести на свет чудеснейшего Сукина Второго. Пять-восемь лет полного сладких предвкушений ожидания – не срок в субтропическом парадизе для вечно молодой, золотоволосой и розовокожей второй мамы, готовой днем и ночью упражняться в «искусстве быть бабкой», воспетом Виктором Гюго.
С птичьим легкокрылым вдохновением тетя рассказывала Сукину завораживающие истории о глубоких реках и высоких горах далекой и волшебной страны, а Сукин слушал маленьким черноглазым зверьком, потому что глубина рек представлялась ему пронзительной тишиной, а высота гор – вечным и немеркнущим светом.
Весь дом уже пестрел проспектами пароходных компаний, когда однажды дождливым, по-воробьиному нахохлившимся августовским днем под ноги Сукина, неловко плечом задевшего высокую, узкую этажерку, вместе с голубой, сейчас же расколовшейся вазочкой упала пожелтевшая газета. Осколки голубого фарфора, оказавшегося с изнанки по-жульнически белыми, смешались с обрывками каких-то фраз, от пыли показавшихся болезненно объемными и яркими. Аршинный заголовок – «Пожар в предместье. Смерть русского антерпренера». Гнилые зубы жирной подписи под фотографией, лицо на которой скрыли мелкие брызги бесстыдной вазочки – «Господин Валентинов. Лекивиль. Лето 1919». И длинные ряды буквенной мелочи вокруг, на веревках которых, словно платочки на дачных защепах, висели и сами собой лезли в глаза закавыченые слова «Инвино», «Сердце Испано-Сюизы» и «Братья Биду в сумасшедшем доме». Все это лежало под ногами Сукина кусками, безнадежно несоединимыми обломками какое-то мгновенье, несколько мимолетных секунд, ровно столько, сколько потребовалось легкой как перепелка тете, чтобы вскочить с турецкого диванчика и со словами «Ах, ты мой медвежонок», все подобрав, вручить в руки явившейся на зов горничной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу